«Застава Ильича» — урок истории
До 11 декабря в Центре Вознесенского идет выставка «Шестидесятые. Слова и образы» — масштабное событие, которое соединяет в себе прямую речь кинематографистов-шестидесятников, фото из редакционной коллекции, плакаты знаковых фильмов оттепели, эскизы художников-постановщиков и многое другое. Публикуем документальное исследование Артема Деменка о фильме «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева — картине, которая прошла все механизмы запрета в послесталинских условиях. Впервые материал вышел в шестом номере журнала «Искусство кино» 1988 года.
Четыре связки пухлых папок — столько материалов хранится в архиве студии имени М. Горького по фильму Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича»), работа над которым продолжалась без малого пять лет — с 1959 по 1964 год. Что заставляет сегодня снять эти архивные документы со стеллажа и, смахнув годами оседавшую пыль, погрузиться в изучение материалов 25-летней давности?
Дело в том, что, сопоставляя содержание этих документов с общественной ситуацией начала 60-х, отчетливее понимаешь, что перед нами драматическое столкновение принципиально нового и по форме и по существу мышления с отлаженной системой администрирования в искусстве, которая видоизменилась, но не собиралась сдавать свои позиции и под лозунгом «борьбы с очернительством» не без успеха противостояла начавшейся после 1956 года «перестройке» сознания. Вот характернейшая цитата из охранительного выступления той поры Г. Александрова: «В хмари и сыри слякотной оттепели запотели наши кинообъективы»Александров Г. Наша правда ясна. — «Литературная газета», 1963, 14 марта.. Статья Александрова была опубликована как непосредственный отклик на встречу руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства в марте 1963 года, ту самую встречу, где жесткой критике была подвергнута новая картина Г. Шпаликова и М. Хуциева «Застава Ильича». Вечная проблема отцов и детей, затронутая в фильме и обсуждавшаяся на встрече, показалась тогда некоторым неактуальной. И ее решили устранить. По крайней мере на словах, как, к примеру, поступил Г. Александров, заявивший в уже цитированной статье, что проблема эта «пришла к нам с буржуазного Запада».
По сути, «Застава Ильича» явилась в кинематографе первым значительным поводом для новой развернутой разоблачительно-обличительной кампании, позволившей отработать механизмы запрета в новых послесталинских условиях.
Вспоминая в ходе одного из обсуждений фильма «мрачные сталинские времена, когда за картину, неправильно сделанную, жестоко наказывали и даже сажали», участники назидательно указывали авторам на то, как изменились в лучшую сторону обстоятельства. И действительно, жестокие репрессии остались в прошлом. Более того, после смещения Н. Хрущева в отредактированном виде и под другим названием — «Мне двадцать лет» — картина вышла в прокат. (Правда, как выяснилось, это было лишь частным послаблением, а не отказом от директивных методов управления культурой и практики политических обличений художников: творческий поиск во второй половине 60-х годов стал еще более затрудненным).
Однако в данном случае, изучая конкретные документы, оставим в стороне вопрос о моральном и физическом ущербе, которые были нанесены художникам бюрократическими разбирательствами и наставлениями «из лучших побуждений». Задумаемся лишь о той поразительной живучести идеологических стереотипов, которые к началу 60-х уже не имели той зловещей силы, что в 30-е или в конце 40-х, но по-прежнему были инструментом подавления самобытного, индивидуального художнического видения. Даже те, кто после нагоняя в высших сферах искренне хотели спасти картину, — прежде всего это относится к С. А. Герасимову, — были вынуждены доказывать политическую лояльность авторов.
Инцидент с «Заставой Ильича» пришелся на десятый год после смерти Сталина и на седьмой год после XX съезда КПСС. А прошлое жило в людях. Не изжито оно до конца и сейчас. Анализируя документы и материалы, связанные с судьбой «Заставы Ильича», мы попытались, не приглаживая стилистические шероховатости, смонтировать выдержки из них так, чтобы современный читатель смог почувствовать реальные противоречия, драматизм времени. Вместе с тем отобранные в данном документальном исследовании наиболее характерные, типологически емкие фрагменты, к сожалению, даже сегодня не кажутся еще безнадежно устаревшими, кое в чем узнаваемы. Не в этом ли состоит главный урок давней истории дню нынешнему?
«Все вокруг звенело капелью, таяло и сверкало на солнце. Трое школьников в распахнутых пальтишках шли по улице, перепрыгивая через лужи, и изо всех сил били палками по водосточным трубам.
Трубы гремели, большие куски последнего зимнего льда выскакивали на тротуар.
Это утро началось рано, синее, солнечное».
Из стенограммы обсуждения Первым творческим объединением киностудии имени М. Горького литературного сценария «Застава Ильича» от 16 декабря 1960 года.
В. Соловьев, сценарист. По-моему, это первоклассная вещь! Сейчас мы везде и всюду говорим о современной теме, о нашей жизни… По-моему, это пока единственный сценарий из того, что я знаю, который о нашем времени говорит прямо, вплотную, о самом главном, что сейчас волнует всех. Если коротко сформулировать, сценарий о том, как жить, о том, как поколение, которое идет сразу за нами, эти вопросы решает… Самое главное здесь заключается в том, что этот круг вопросов, волнующих сейчас всех нас и особенно молодежь,… выражен языком искусства, который воздействует на сердце, воздействует на воображение и заставляет думать обо всем этом не готовыми шаблонными формулировками: нужно жить так-то, а заставляет извлекать из души сокровенные мысли […] Эта вещь такая необъятная по своим самым разнообразным связям с жизнью, что трудно даже говорить о ней. Это вещь редкостно прекрасная и чрезвычайно нужная на сегодняшний день.
В. Ежов, сценарист. Эта вещь удивительно настоящая, хорошая и нужная… Это самая большая удача. И удача, пришедшая к автору нелегким путем. Это ярко выраженное направление автора. Это очень важно… Я помню Марлена с первого его сценария в институте. Он прошел через много раздумий, пригласил к себе молодого автора, а сам в душе сохранил свой юный задор, ощущения студенческих лет и мудрость пройденного. Он великолепно все видит, так по-марленовски, и хорошо, что и его соавтор настроен с ним в унисон.
[…] А если будет нужно, надо пойти к Екатерине АлексеевнеФурцева Е. А. — министр культуры СССР с 1960 по 1974 год., и она это поймет. Мы должны сказать, что это первое глубокое, по-настоящему большое исследование жизни на современную тему… И что самое прекрасное — нет готовых ответов, что у нас все стараются делать…
Ю. Егоров, режиссер. Мы взяли за красивую и хорошую моду разговаривать в нашем объединении откровенно. Раньше была мода на ложь, а сейчас мода на правду. Мода эта началась с большого Художественного совета и перекочевала в наше объединение. Если плохо, то мы говорим, что плохо, если хорошо — что хорошо. А вот если коленки дрожат от зависти?! У меня сейчас такое ощущение, что мы стоим на пороге больших событий… Я думал, что должна появиться вещь, которая будет продолжением «Весны на Заречной улице», но я никак не ожидал такого произведения, которое может послужить очень серьезным ответом на «Сладкую жизнь»…
Б. Бунеев, режиссер. Сегодняшний день надо запомнить… Сегодня мы все время волновались, внутри все бурлило. Значит, здесь присутствовало искусство… Я прочел не в первый раз эту вещь. И должен Марлену сказать, что беру свои слова обратно. Мне казалось, что здесь нет положительного разряда… Я не знал, как ты сделаешь сцену с поэтами. Сейчас сцена поставлена очень к месту […] Надо всем понять, что появилось произведение, которое мы долго ждали и которому надо дать железную улицу. (Смех.) Ну, оговорился — зеленую улицу…
28 декабря 1961 г.
Директору киностудии имени М. Горького тов. Бритикову Г. И.
[…] Картина «Застава Ильича» задумывается как рассказ о дружбе трех рабочих парней, о тех путях, которыми они приходят к пониманию величия нашего времени. […]
Однако, по мнению Управления, этот авторский замысел не получил должного творческого разрешения.
Серьезным недостатком сценария является его бесстрастная интонация, созерцательная, а не активная, гражданственная позиция. Авторы сценария считают своих героев типичными представителями современной молодежи, однако мир духовных и общественных интересов этих героев крайне узок, а их представления о жизни советского общества — примитивные.
Авторы сценария и фильма пытаются ответить на вопрос о смысле жизни нынешнего молодого поколения — «поколения двадцатилетних», хотят показать его вкусы, симпатии, антипатии, его общественную и нравственную платформу. Но, решая эту задачу, авторы допускают большой просчет. Они искусственно изолируют своих молодых героев от всего того, что связано с их трудовым и общественным бытием. «Повинуясь» авторской воле, герои фильма сталкиваются только с теневыми явлениями жизни и недостойными людьми. По сути дела, сегодняшняя жизнь выглядит в сценарии и материале как цепочка грустных, минорных по своей тональности эпизодов. Разумеется, подобная жизнь ничему хорошему, оптимистическому, значительному не сможет научить и героев картины, и ее будущих зрителей[…]
И. о. начальника Управления по производству фильмов Министерства культуры, СССР В. Разумовский
Я не боюсь преувеличений: картина эта — большое событие в нашем искусстве, очень большое. Смотревший ее одновременно со мной Анджей Вайда… после просмотра сказал, что подобного фильма он еще не видел (думаю, что Вайда на своем веку кое-что все-таки посмотрел). […]
Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы.
Хуциев и Шпаликов пошли по другому пути, куда более сложному, Сергей задает этот вопрос — как жить? — своему отцу, погибшему на фронте отцу. Это одна из сильнейших сцен фильма. Отец и сын встречаются. Что это — сон, бред, фантазия, галлюцинация? Не знаю, но они встречаются. Отец в пилотке, плащ-палатке, с автоматом на груди…
— Ты знал, что тебя убило?
— Нет, я думал — выживу. А потом понял, что все, конец! Другие побежали дальше, вперед, я не знаю, кто добежал…
— Я хотел бы тогда бежать рядом.
— Не надо.
— А что надо?
— Жить.
— Да. А как? Как?..
— Сколько тебе лет? — спросил солдат.
— 23.
— А мне 21. Как я могу тебе советовать?
От этих слов мурашки бегут по спине…
Отец не дал ответа — он уходит, его ждут товарищи… И они идут, три солдата, три товарища, в плащ-палатках, с автоматами на груди по утренней сегодняшней Москве. Мимо проносятся машины, а они идут, идут, идут, как в начале картины три других солдата, солдата революции, по улицам другой Москвы — Москвы 17-го года… И шаг их, размеренный, гулкий, сменяется другим шагом… Красная площадь. Смена караула. Мавзолей и надпись: «Ленин».
В картине много других линий, других узлов, других столкновений, других сложностей, но все эти линии, узлы, столкновения и сложности сводятся к одному: как дальше?
А ответ один — так же, как и сейчас — в неустанных поисках ответа, поисках справедливого пути, поисках правды. Пока ты ищешь, пока задаешь вопрос — себе, друзьям, отцу, на Красной площади, — ты жив. Кончаются вопросы — кончаешься и ты. Сытое, благополучное, безмятежное существование — это не жизнь.
«Новый мир», 1962, N 12
Н. С. Хрущев. Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. 8 марта 1963 года (выдержки)«…Тут он нередко оказывался игрушкой небескорыстных советчиков, а то и скрытых противников, готовивших его падение. Хорошо помню, что посещение им художественной выставки в Манеже было спровоцировано специально подготовленной справкой. В ней мало говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные высказывания литераторов, художников о Хрущеве, где его называли «Иваном-дураком на троне», «кукурузником», «болтуном» (Бурлацкий Ф. Хрущев. Штрихи к политическому портрету. — «Литературная газета», 1988, 24 февраля).
Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича». Картина ставится режиссером тов. М. Хуциевым на киностудии им. М. Горького под художественным руководством известного кинорежиссера тов. С. Герасимова. Надо прямо сказать, что в этих материалах есть волнующие места. Но они, по сути дела, служат прикрытием истинного смысла картины, который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни. Поэтому мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы. […]
Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освященного идеями Программы Коммунистической партии! Разве такая молодежь сейчас вместе со своими отцами строит коммунизм под руководством партии!.. Нет, на таких людей общество не может положиться — они не борцы и не преобразователи мира. Это — морально хилые, состарившиеся в юности люди, лишенные высоких целей и призваний в жизни. […]
Свое намерение осудить праздных людей, тунеядцев постановщики фильма не сумели осуществить. У них не хватило гражданского мужества и гнева заклеймить, пригвоздить к позорному столбу подобных выродков и отщепенцев, они отделались лишь слабой пощечиной негодяю. Но таких подонков пощечиной не исправишь. […]
[…] Серьезные принципиальные возражения вызывает эпизод встречи героя с тенью своего отца, погибшего на войне. На вопрос сына о том, как жить, тень отца в свою очередь спрашивает сына — а сколько тебе лет? И когда сын отвечает, что ему двадцать три года, отец сообщает — а мне двадцать один… и исчезает. И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит! Все знают, что даже животные не бросают своих детенышей. Если щенка возьмут от собаки и бросят в воду, она сейчас же кинется его спасать, рискуя жизнью. Можно ли представить себе, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни? А сделано так неспроста. Тут заложен определенный смысл. Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни и за советами к ним обращаться незачем. Молодежь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решить, как ей жить. Что же, здесь довольно ясно выражена позиция постановщиков кинофильма. Но не слишком ли вы хватили через край? […]
В наше время проблема отцов и детей не существует в таком виде, как во времена Тургенева, так как мы живем в совершенно другую историческую эпоху, которой присущи и другие отношения между людьми. В советском социалистическом обществе нет противоречий между поколениями, не существует проблема «отцов и детей» в старом смысле. Она выдумана постановщиками фильма и искусственно раздувается не в лучших намерениях.
«Новый мир», 1963, N 3
Из стенограммы заседания Первого творческого объединения киностудии имени М. Горького по обсуждению фильма режиссера М. Хуциева «Застава Ильича» от 12 марта 1963 года
С. Герасимов, кинорежиссер. […] Я хочу рассказать вам о своем личном впечатлении… личное присутствие и личные оценки в вопросах, связанных с партийной беседой, весьма существенны. […]
Как я, одно из главных действующих лиц всей критики по адресу «Заставы Ильича», отношусь к прошедшему совещанию? Оно мне кажется необычайно важным в целом, имеющим непреходящее значение, носящим отнюдь не кампанейский характер, имеющим отношение не только к тому или иному частному замешательству, к тем или иным просчетам, которые встречаются в практике художников, работников кино, театра. Партия выравнивает идеологический фронт, делает это последовательно, не от случая к случаю, а почти ежегодно. Едва ли нужно объяснять, насколько это важно и естественно в ходе развития нашего общества. […]
На чем партия концентрировала сейчас свое внимание?.. Партия… выступила решительно за сохранение норм реалистического искусства и решительно отвела всякие попытки реставрировать антиреализм как некую принципиально возможную форму художественного творчества у нас, в Союзе. Тут… существует еще, может быть, среди художников, в частности молодежи… такое мнение, что это дело, имеющее временный характер… Это наивная позиция, потому что если бы не тут, то там возникла бы необходимость побеседовать по этому важному вопросу, не у художников, так у нас, — в конце концов, это проявление одной и той же тенденции, которая, кроме того что она антиреалистична по форме, по сути прикрывает собой определенные идеологические отступления. Ну так, как, скажем, всякая отвлеченность, всякого рода абстракция, независимо от того, живописная она или литературная, имеет целью зашифровать, спрятать от народа истинные убеждения художника, завуалировать их в такой форме, которая дает право истолковывать каждому на свой вкус произведения, которые якобы не представляют общественного предназначения, которые представляют нечто лично принадлежащее одному художнику.
Я лично не смог бы никогда остаться на такой позиции или разделять ее хотя бы частично, потому что являюсь реалистом и считаю, что это основа основ художественного творчества, а не там, где начинается или сознательная игра с народом в запутывание, более или менее многозначительное, или безумная стряпня, которая стоит на грани шарлатанства, а с другой стороны, на грани коммерческой деятельности.
Это — необходимая борьба нашего реалистического фронта с попытками протащить антиреалистические работы из своей комнаты, из своих личных антресолей перед лицом народа.
Однако, разумеется, дело не только в том, чтобы механически прекратить приток такой продукции к народу. Не эту цель преследует партия, цель значительно более глубокая, поэтому это делается не в административном порядке, а в процессе широкой беседы, куда привлекаются сотни художников. Цель такая: на принципиальной основе поставить генеральные вопросы идеологического строительства в нашей социалистической стране, поставить их откровенно, со всей большевистской прямотой, без всяких экивоков и извинений. Представляя собой народное сознание, народную волю, партия со всей серьезностью ставит эти вопросы, чтобы всякие попытки уйти от откровенного разговора были бы вскрыты, разоблачены и стали предметом широкой свободной дискуссии, что и имело место.
[…] Даровит ли Вознесенский? Это не вызывает сомнения. Но верно сказал Н. С. Хрущев, полемизируя с ним, когда тот был на трибуне«Н. С. Хрущев, уже будучи на пенсии, передал мне, что сожалеет о том эпизоде и о травле, которая за этим последовала» (Вознесенский А. «Мы были тощие и уже тогда ничего не боялись». — «Огонек», 1987, N 9).. Он высказал в высшей степени верную мысль, которую очень бы хотелось донести до молодых и не только молодых людей, указывая на главный недостаток Вознесенского. Это переоценка собственной личности, ощущение самоисключительности: я феномен, а вследствие этого мне подвластны суждения, которые могут даже не проверяться народной совестью, народным разумом, я над народом. Я сказал бы со всей решительностью, что такая позиция всегда вызывает у меня раздражение… незрелая молодость в высшей степени подвластна страсти переоценки собственной личности. Тут сказывается ощущение избытка своих физических сил, хотя это меньше всего можно относить к моему другу Марлену Мартыновичу, да и Вознесенский не представляет собой физического титана, он человек довольно легкого веса. При всем несомненном присутствии большого таланта у него несколько кружится голова. Кружится она и у Евтушенко. Это стремление смотреть с наспех завоеванных высот, встать на позиции гения, вещать наподобие пифии. Это позиция, ничего общего с нашей коммунистической моралью не имеющая. […]
При всей любви к моему другу А. Тарковскому не могу не сказать, что у него тоже кружится голова, о чем свидетельствуют его статьи. […]
К чему я все это говорю? Есть основания у партии рассердиться на художников? Да, тысячу раз есть! Причем все это подается под видом поисков правды, стремления обрушиться на то, что осталось нам в наследство от культа личности Сталина и прочего бюрократического сталинского управления, а под эту бирку протаскивают просто бессовестную критику или, вернее, бессовестное критиканство всего нашего строя. И вот, как говорят в таких случаях, этот номер не пройдет. Так что повод есть. Теперь поговорим о собственном хозяйстве.
Как вы знаете, нас сурово покритиковала партия за картину «Застава Ильича», и тем более сурово, что вся критика была непосредственно со стороны Н. С. Хрущева, первого секретаря Центрального Комитета и главы правительства. Это вопрос серьезный, к нему надо отнестись со всей серьезностью. По этому поводу позволю себе огласить статью, которая сегодня пойдет в «Известиях» за моей подписью. Называется она «Правда и принципиальность»«Надо, чтобы весь фильм, освобождаясь от рефлексий и топтания на месте, обрел наступательную силу, повел бы за собой молодежь на заставу Ильича». Подробнее см.: «Известия», 1963, 12 марта. […]
М. Хуциев, режиссер. Делая картину, мы ни на секунду ни в какой мере не пытались стоять на каких-то неискренних позициях и делать что-либо противное тому, чему мы служим, то есть своей родине, народу и партии. Наши намерения всегда были самыми искренними. И какой бы счет мне в жизни ни предъявляли, я никогда не скажу, что что-либо сделанное мною сделано не из искренних побуждений… Что касается картины, то поскольку желание наше заключается в том, чтобы картина служила своей стране, народу, то, естественно, мы не собираемся стать в позу и сказать: работать дальше мы не можем. Мы хотим дальше работать, хотим, чтобы картина была завершена и стала достойной названия, в которое мы вкладываем гражданский смысл. Это мое желание и желание Шпаликова, наша позиция едина. Мы будем делать все, чтобы картина получилась в том виде, в каком она могла бы сыграть свою практическую — я подчеркиваю — практическую роль в той борьбе с остатками прошлого, с наследием культа, в борьбе за наше общее будущее, коммунизм, которую ведет весь народ и партия. Мы хотим, чтобы картина заняла свое место и практически в этом участвовала. Это всегда было нашим намерением, и если это не вышло, то мы это горько переживаем. Но повторяю, других намерений у нас не было и не будет. Мы будем делать картину, учитывая суровую критику партии, картину, которая бы практически участвовала в нашей общей борьбе, потому что я просто не представляю, что художественное произведение может иметь иное назначение.
Г. Шпаликов, сценарист. Выступление Хрущева и все, что на совещании касалось нашей картины, еще раз убедило меня в том, что это была не пустая затея, не пустой номер, это не была картина на «ширпотреб», это была серьезная работа, в которой, как выяснилось, мы в чем-то очень серьезно просчитались. И Марлен Хуциев, и я, и вся творческая группа считаем, что было бы равносильно самоубийству стать в позу и считать, что дело кончено, что мы такие художники, что эта картина будет какое-то время лежать, а потом выйдет на свет. Это было бы предательством и по отношению к картине, и по отношению к зрителю и к большому коллективу студии, который потратил так много сил и нервов на эту работу. И все это дало бы огромный повод для кривотолков со стороны наших «доброжелателей», которые не особенно искренны в оценках, могут легко менять свою позицию и не быть особо принципиальными по отношению к нашей общей работе. В этом мы видим для себя очень важный и ответственный повод для того, чтобы картина была закончена и показана зрителю. […]
С. Герасимов. Авторы… высказали свою ответственную позицию. Я не могу согласиться только с одним положением выступления, но отношу его за счет нервного состояния авторов. Ведь дело не только в том, что вы подводите всю студию, весь коллектив. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что два молодых художника выступают с совершенно определенной идеологической концепцией, имеющей черезвычайно важное значение, ибо она касается позиции молодежи в важнейшем процессе борьбы за коммунизм. И речь здесь идет не о том, чтобы заняться приглаживанием, причесыванием невышедшего произведения, речь идет о том, чтобы глубоко осмыслить суть критики партийного руководства по адресу этой работы и сделать для себя далеко идущие выводы. Это я говорю без всяких отеческих ламентаций. Я вижу перед собой вполне зрелых художников, это совершенно очевидно, одаренных художников, которые, однако, по моему глубокому убеждению… не продумали, не прочувствовали до конца суть поставленной перед ними проблемы. […]
Кто был на встрече, тот мог с огромным удовлетворением отметить следующую в высшей степени характерную черту для нашего нового времени, нового периода, периода после XX съезда, после прихода к руководству Никиты Сергеевича. Хотя разговор достигал порой большой резкости, он никогда не переходил в плоскость отчуждения, отбрасывания того или иного человека, художника. После очень горячих реплик следовало рукопожатие: работай, твори, помогай! Огромное общее дело — помогай, не стой в позиции критиканов, которые стоят на обочине и делают более или менее ядовитые замечания по тому или иному поводу. Помогай! Этот пафос вовлечения в общее дело должен стать пафосом нашей работы на студии. Могут найтись товарищи в нашем коллективе, которые бросят кучу негативных соображений: это не так, это не эдак. А здесь нужно помогать и сказать — как, а негативная критика — это дело в высшей степени легкое.
С. Ростоцкий, режиссер. Я целиком присоединяюсь к тезису Сергея Аполлинариевича, что партия имела право рассердиться. Имела право и могла бы даже больше рассердиться, чем рассердилась. Мы видели это во время заседания, понимали, на основе чего это происходит. И это можно понять даже просто по-человечески. Первое, что я хотел сказать, это то, что в некоторой степени мы здесь виноваты все. Порою относясь хорошо к художнику, к человеку, любя его, мы его вообще губим. Ведь было бы нечестно сказать сейчас, что мы не могли предвидеть того, к чему мы пришли. Мы это могли предвидеть. Во всяком случае, могли предвидеть те, кто имел свой собственный личный опыт. Мы слишком берегли Хуциева. Я его сегодня не буду беречь, потому что думаю, что для него сейчас важно, чтобы мы его не берегли на определенном этапе, тогда мы его сбережем.
Обычно происходит такая вещь: когда друзья, любящие люди не говорят человеку правду, эту правду говорят враги, и тогда эта правда оборачивается уже против всех, и против художника тоже. […]
Я знаю, что многие из нас (могу сказать это и про себя), боясь того, что это слово часто неверно понимается, неверно истолковывается, почти не применяли, кроме как в личных разговорах, тезиса о партийности по отношению к этому фильму, хотя мы глубочайшим образом понимаем, что этот фильм должен быть особенно партийным в силу своего значения, и названия, и чего угодно.
Я хочу сказать, в чем я лично понимаю партийность. В страстности, страстности художника — за что он, против чего он. В данном случае я вообще говорю о партийности. Может быть партийность врага, может быть наша коммунистическая партийность, но партийность обязательно подразумевает под собой убежденность и страстность.
Я хочу, чтобы Хуциев и Шпаликов — я понимаю их волнение, я понимаю, как им трудно, — помнили, что они отвечают не только за критику, не только перед студией, но, если хотите знать, даже перед будущим развитием нашего киноискусства, потому что любая такого рода неудача, ошибка может затормозить развитие искусства в нужном партии направлении. […]
Первый вопрос — это взаимоотношения отцов и детей… Это вопрос и политический, и партийный, и даже просто человеческий. Я не хочу говорить сейчас, что они специально хотели столкнуть отцов и детей, хотели они, может быть, не этого, но тем не менее чувство такое из фильма могло родиться. […]
Я говорю об этом не в порядке обвинения, не в порядке критики, потому что ту критику, которая была, не покрыть другой критикой, я говорю об этом для того, чтобы задуматься о дальнейшем. Если может быть чтение фильма в плане противопоставления поколений, если возможно толкование определенных сцен по этой линии, я думаю, по суду большой правды этого не должно быть. Это надо исправлять. Я убежден, что эта проблема — отцов и детей — надуманна […]
Когда мы говорим: это плохо… это плохо… это плохо… — мы должны серьезно вдуматься в это. Вроде эта позиция благородная. Я художник, указываю партии на какие-то определенные промахи в нашей жизни, на то, что в нашей жизни происходит не так, и т. п. Но, товарищи, так же, как и в нашем сегодняшнем обсуждении, позиция человека, который говорит: «Это плохо, я против этого, это нужно исправить, нужно сделать так, и это возможно сделать», — такая позиция всегда сильнее, чем позиция человека, который просто говорит: «Это плохо… и это плохо…»
Вот «Девчата»«Девчата» (1962) — фильм Ю. Чулюкина.. Фильм пользуется успехом в мире. За границей пишут: конечно, никто не поверит, что советские лесорубы так живут, но, в общем, ребята они хорошие. Враждебно настроенная пресса не хочет верить, что эти лесорубы так живут! Дело не в том, что нужно лакировать, но нужно искать глубинные процессы, которые ведут к утверждению, а не только к отрицанию.
… — Помнишь, он как-то читал газету, а потом вслух при всех говорил: «Нельзя рекламировать наш строй, как холодильники».
— Так вы же сами смеялись! — Фокин посмотрел на Черноусова.
— Слушай, Коля, мы говорим с тобой откровенно, без свидетелей. — Черноусое кивнул на стул. — Да, я смеялся, понимая, что к чему. А что думал при этом он сам?..
С. Ростоцкий. Я глубочайшим образом убежден, что наше искусство действительно, на самом деле должно быть оптимистичным, обязательно должно быть оптимистичным, потому что философия, которой мы располагаем, — это философия оптимистическая, философия утверждения жизни, победы правды. […] Вот о сцене, о которой говорит Никита Сергеевич, по поводу более активного осуждения бездельников. «В этом фильме есть тенденция осуждения молодежи, которая бездельничает, — говорил Никита Сергеевич, — проводит время так-то и так-то, но тенденция не выражена». И мы с этим все согласны, потому что мы говорим о «Заставе Ильича», говорим о ленинских нормах жизни. Представьте себе действительно по-настоящему людей, которые знают страну, которые знают, сколько нужно было сил партии, чтобы люди ехали на целину, и пусть там были трудности, недостатки, но эти люди знают, что это дало стране, представьте, как они отнесутся к этим сценам.
На совещании выступал Пластов… И вот, представьте, к нему в деревню привезут эту картину с этими сценами жизни молодежи, — убьют! Пластов рассказывал, что он не мог сказать колхозникам, что получает за иллюстрации 500 рублей. Один мужик спросил его: «Пятерку-то тебе платят?» Он сказал: «Больше». Другой спросил: «Десятку-то дают?» Он сказал: «Больше». — «Ну, скажи, сколько же тебе платят?» И он сказал: «Четвертную». А тот сказал: «У тебя золотые руки: чик-чик и готово». А потом подумал и добавил: «А все с нас».
К чему я это говорю? Я хочу сказать, что в обсуждении нам чаще нужно вставать на позиции этих крестьян. В этом я вижу народность, вижу в этом партийность… Сейчас уже появляются статьи — чего скрывать, — и еще появятся, где люди, которые не имеют права критиковать, не имеют права так быстро присоединяться к тому, что сказала партия, и аргументировать слова партии, поскольку они ничего сами не делают по десять-двадцать лет, а теперь они будут говорить: мы все это знали, видели.[…]
Я считаю, что Хуциев и Шпаликов должны доказать, что они художники партийные, что они люди сильные. Для этого нужны очень резкие изменения в картине. Это не значит, что эти изменения должны быть антихудожественные, что они должны быть выходом из положения. Нужно пересматривать целый ряд вещей. А мы все этому должны помочь атмосферой, делом, непосредственным участием.
С. Герасимов. Нужно представить себе реально изменение концепции вещи в ее практическом превращении в искусство вот по какому важнейшему обстоятельству… Нужно развить эту мысль, она мне кажется самой главной, то, о чем вскользь упомянул С. Ростоцкий, рассказывая о выступлении Пластова, великолепно знающего психологию деревенского человека, чтобы эта позиция стала отправной в работе художников, то есть чтобы все начиналось с оценки трудового вклада в жизнь, ибо душеустроительство, как выражается мой друг А. Сурков, представляет собой не лучший вид творчества вообще.
Я считаю, главная беда современных молодых художников заключается в том, что они выделяют себя из жизни, уходят в свое художническое подполье и там начинают наподобие раков-отшельников размышлять, где право, где лево, а жизнь развивается по своим законам. Пока герои, которые берут на себя по воле авторов право судить о жизни, не будут принимать фактического участия в жизни общества, они представляют собой эфемерную силу.
— Ты знаешь, — негромко сказал Сергей, — я вот тут как-то подумал и понял, что я, например, совершенно правильный человек. Я работаю, собираюсь в институт, принимаю участие в общественной жизни, я агитатор.
— Так ты простой советский человек.
— Ну ладно, простой, где они, простые?.. Не знаю, но иногда мне кажется, что я живу зря, — продолжал о своем Сергей. — Правильно, благопристойно, но зря.
— Неспокойная совесть преступника, — посочувствовал Сергею Фокин. — Ну, что тебе надо? Ты никого не ограбил, не убил, живи и радуйся.
— Я понимаю тебя, — сдвинул брови Сергей. — Существует такая философия: всю жизнь радоваться, что ты не сволочь, что бывают еще и похуже тебя.
С. Герасимов. Что такое эти ребята? Это старички, пикейные жилеты на новый лад известного сочинения Ильфа и Петрова, рассуждающие, голова Бриан или не голова… Работать надо! Пафос труда берется за скобки, когда некий домысленный человек, отец Ани, по-видимому, демагог и двоедушный тип, говорит, что он работает, герой отвечает: «Я тоже работаю, но не хвастаю этим от имени народа». Но все это еще надо доказать, мы этого не видим. И то, о чем говорил Ростоцкий, главный критерий: кто ты такой, чтобы критиковать? Это простая истина, против которой возразить нечего. […]
Почему же все-таки у картины много заступников и аз многогрешный в том числе, за что несу всю меру ответственности? По той причине, что я вижу в художниках дарование, вижу способность видеть жизнь не умозрительно, не во внешних формах, а в живых связях и надеюсь и верю, что они используют эту способность на сто процентов. А они изо всех сил эту способность не желают использовать: стесняемся, неудобно. О партии сказать впрямую неудобно. Эта застенчивость в таких делах в нашей советской партийной практике не может принести серьезных художественных результатов… Я говорю это потому, что мне хочется еще раз внедрить в сознание моих дорогих друзей Хуциева и Шпаликова главное: […] позиция художников в современных условиях должна быть не регистраторской, а боевой, активной, вмешивающейся в события до конца и преображающей по воле своей. Бояться сильного слова, сильного действия — это позиция неподходящая, она не соответствует духу времени, духу идей и всей нашей практике.
[…] Я должен сказать со всей решительностью, что неподходящую услугу все эти годы, особенно в последние два года, оказывает на формирование новых художников (не обязательно молодых, но и зрелых) критика. Критика перепутала вокруг этого вопроса черт знает что. Она еще сейчас в результате того, что не хватало времени ею заняться, ушла из-под партийного прицела. Мы тоже несем на себе ответственность как руководители, но надо сказать, что помощи от внешней критики ждать не приходится, потому что запутают любой вопрос, перепутают, где право, где лево. Много найдется критических барышень, которым все ясно, которым ясно, что надо делать так, чтобы все было как за границей, они сориентируют на «нужные» ориентиры, только не на свои.
Правда это или неправда? Это правда. И эта правда нами еще не оговорена. И, конечно, это играет свою роль. Поднажмешь сколько-нибудь строго, поднимается такой писк: вот Герасимов узурпирует молодых художников, скручивает им ручки и ножки, проявляет свою ретроградную власть. А в таких случаях, как говорил Н. С. Хрущев, надо доводить дело до конца. И это урок всем, убежденным в своей принципиальной позиции: доводи дело до конца, не виляй в этом вопросе.
Т. Лиознова, режиссер. Я вспоминаю первый просмотр материала. Я лично плакала, когда смотрела первомайскую демонстрацию, и думала какое счастье так снимать!.. И я помню, что сказал Герасимов: «Очень интересно получается, но нужно все время думать, куда это нацеливает»… Бели сложить все, что говорилось по этому поводу в хоре не тех, кто хвалил, а тех, кто сомневался, станет ясно, что не так вам нужно было выступать, если бы вы поняли это и если бы вы следили за взволнованными выступлениями ваших товарищей, а они были… Ты не отрекайся… Почему ты это забываешь? Сергей Аполлинариевич говорил (это слышал Марлен, это слышал Шпаликов) нежно, мягко. Никогда он так с нами не говорит, нам он дает по зубам! Почему вы стесняетесь сказать прямо о своей любви к Советской власти? Ради этого и фильм сделан. […]
— Но, если нет вещей, о которых можно говорить всерьез, тогда вообще, наверное, не стоит жить, или ты не согласен?
— Это провокационный вопрос, — усмехнулся тщательно одетый молодой человек. — Его можно задать и тебе.
— А я отвечу, — сказал Сергей. Он помолчал, а потом сказал негромко, останавливаясь перед каждым словом: — Я отношусь серьезно к революции, к песне «Интернационал», к тридцать седьмому году, к войне, к солдатам, и живым и погибшим, к тому, что почти у всех вот у нас нет отцов, и к картошке, которой мы спасались в голодное время…
Г. Бритиков, директор киностудии имени М. Горького. Можно авторов фильма упрекнуть в том, что они не поверили нам как коллективному уму, то есть нашему центру, назовем это объединением или студией, не поверили тем мыслям, которые были высказаны с доброжелательных позиций, а не с враждебных позиций. Практика говорит, что были, вероятно, силы, которым авторы доверяли больше, чем силам студийного коллектива.
Я удовлетворен хотя бы такой принципиальной декларацией того и другого, что они это дело понимают, что они это дело выправят. Это заявление слишком запоздавшее, но тем не менее все-таки выздоравливающее.
С. Докучаев, начальник производства киностудии имени М. Горького. Мне немного непонятно выступление руководителя объединения тов. Герасимова. Призывая к большевистской принципиальности, он в то же время выступил с либеральным заявлением о всепрощении, забвении прошлого, невозвращении прошлого и более того — выступил с явно неправильной трактовкой критики, разделением ее на негативную и позитивную. Хотя я не режиссер и сам картины не ставлю и, может быть, не могу предложить рецепт, как исправить картину, я если вижу, что неправильно, считаю своим долгом сказать об этом, должен сказать и буду говорить, как бы это т. Герасимов ни расценивал. […]
Давайте говорить прямо, принципиально, там это выдано за материал, но мы уже потом, струсив, стали говорить, что это материал, а ведь 30 декабря уговаривали подписать и семь дней дать на исправление картины. Мы струсили сейчас, а надо прямо сказать: да, набедокурили мы с этой картиной крепко. Т. Лиознова правильно говорила: хоть одна из этих ошибок была упущена оппонентами картины? Нет. Может быть, не совсем решительно, но все это было сказано, и этого могло бы не быть, если б мы тогда говорили о принципиальности. Сейчас мы говорим о принципиальности, но не говорим о том, почему это произошло. Почему сейчас говорят: очень радостно видеть признание Хуциевым своих ошибок? А я не уверен, признание это или нет. Когда на эти ошибки указала его подруга Лиознова, он их не признавал, когда ему на них указывали на идеологической комиссии, он…
М. Хуциев. Вы же там не были, откуда вы знаете?
С. Докучаев. […] Я знаю позицию вашу и Шпаликова. Я помню, как вы говорили: «Через два года будете жалеть…» Сейчас возражать больше нечего. Первый секретарь ЦК сказал, что это плохо, приходится с этим мириться. […]
Л. Кулиджанов, режиссер. Критика партийная… предполагает, что эта картина будет доделана в правильном направлении, в партийном направлении, чтобы сделаться тем, о чем говорил здесь т. Хуциев, — объективной силой, практическим оружием в нашей борьбе.
Я бы хотел предостеречь в равной степени как от паллиативов, от полумер, так и от паники, от панического, нервозного отношения к предстоящей серьезной работе… Какие-то штопки, какие-то латки — это путь неправильный, опасный, который не исправит картину, а только ухудшит.
Я. Сегель, режиссер. Я не считаю возможным отрекаться от того, что мне эта картина нравилась, что я ее очень любил, и думаю, что если я ее сейчас посмотрю, то смогу сказать, что сохранил симпатии к ее талантливости. […]
Те принципиальные и серьезные ошибки, которые существуют в картине и которые партия нам сейчас помогла обнаружить, действительно были совершены ими в постановке и нами при оценке этой картины в полном убеждении и вере, что эта картина всем своим строем, всей своей идейностью, всем своим замыслом, каждым кадром служит построению коммунизма, служит Советской власти. […]
Н. С. Хрущев, справедливо критикуя картину, преподал нам урок, и мне кажется, было бы неуважительно по отношению к главе партии и правительства не прислушаться к этому уроку. А урок говорит о том, что Никита Сергеевич — он выражает не только свое мнение, а и мнение партийного руководства — склонен рассматривать это как материал. Это сказал Никита Сергеевич Хрущев, и давайте же уважать мнение Первого секретаря ЦК партии. Тем самым нам предложено подумать, как этот материал — а случайно так названо быть не могло — должен стать хорошей, полезной картиной. И это не двусмысленно сказано, а сказано ясно — давайте так рассматривать. Люди, которые делали эту картину, названы талантливыми. Отдельные сцены вызывают волнение позитивного порядка. Насчет картины Никита Сергеевич совершенно ясно и точно сказал, что его не устраивает… Если мы хотим картину доделать, то должны доверять людям, которые будут вести ее к финишу.
М. Барабанова, актриса, член комиссии партконтроля студии. Я не хотела выступать, но после выступления Яши Сегеля не могу молчать — это выступление произвело на меня такое же впечатление, как и выступление т. Чухрая на открытом партийном собрании. Оно меня оскорбило… Не надо говорить о том, что мы извращаем сейчас высказывания т. Хрущева, мы их очень внимательно читали. Если бы т. Хрущев не собрал бы это совещание, картина была бы выпущена. […]
Меня волнует только один вопрос. Меня сегодня т. Хуциев не убедил ни в чем, не убедил и в самом главном: мне кажется, он остается при этой концепции… Тов. Хрущев — власть, он сказал нет, и мы все говорим нет. Это же так.
Яша Сегель говорит, что картина очаровательная, она его покорила…
Я. Сегель. Не передергивай!..
М. Барабанова. […] Я думаю, что Хуциеву, который сделал «Весну на Заречной улице», чужда такая концепция. Не могу понять, откуда родилась у него эта тема. Я его воспринимала как человека, стоящего на оптимистических позициях.
Я. Сегель. Какая страшная тема — преданность партии!
М. Барабанова. […] Вы говорите: вопрос отцов и детей. Но ведь Хуциев не развил тему матери и главного героя, но развил совершенно другую концепцию. Зачем же мы будем это заглатывать! Давайте серьезно поговорим, тогда мы сможем помочь. А вы начинаете — очаровательная… Ведь только потому, что товарищ Хрущев сказал, мы так серьезно к этому относимся… Я понимаю Герасимова, у него ужасное состояние сейчас… Он видел — талантливая вещь, а первая часть очень хорошая, никто не отрицает. Но с каким неуважением вы отнеслись к партийному голосу на студии. Вот комиссия партконтроля — пусть мы бездарны, но мы ведь люди, которые умеют думать, чувствовать. […]
Мы говорили об односерийном сценарии, о каких-то недостатках, причем говорили с добрым намерением, потому что хотели помочь. И уверяю вас, к Хуциеву мы относимся еще более нежно, чем Яша Сегель. Появилась вторая часть сценария. И вот представьте: я, простой зритель, прихожу в кино, смотрю три часа картину, и потом основной герой говорит: как жить? Зачем же я смотрела эту кинокартину: он не знает, как жить, после того как Хуциев своим сюжетом должен был двигать героя, должен был довести его до ясного ответа… Я думаю: профессиональности не хватило Хуциеву, почему он так запутался.
М. Хуциев. […] Я мог ошибиться, но я не мог сделать что-то во вред моей родине, моей партии, народу. Я очень плотно связан с историей своей страны и не только своей работой, но и страницами своей биографии. А вам, Мария Павловна, я скажу следующее. Я сегодня первый раз услышал, узнал о такой вашей позиции в отношении картины. Но много раз вы мне пожимали руку в коридоре и говорили: «Как это прекрасно». Много раз вы мне говорили это при свидетелях. Нельзя так поступать. Никогда не забывайте, что наступит такой момент, когда нужно будет человеку посмотреть прямо в глаза. Я вам могу смотреть прямо в глаза, а если вы после сегодняшнего выступления сможете смотреть мне прямо в глаза, я буду завидовать вашей выдержке. В числе тех людей, которые мне пели дифирамбы, как теперь говорят (кстати, это меня всегда очень смущало, я всегда говорил, да что вы, вот это у меня не вышло, вот это не получилось), были и вы. Меня потрясло ваше выступление, потому что многое можно простить людям — недоверие, ошибку, даже жестокость, но это… Простите. Не нужно приписывать людям того, чего они не делают. Вы задумайтесь на секунду над тем, что вы говорите, какие обвинения вы нам предъявляете: обманули партию, обманули Хрущева… Как вы можете так говорить?! Что вами руководит? После того как мы были вызваны в ЦК, вы подошли ко мне и сказали: Марлен или Марленчик, как вы всегда ко мне обращались, что тебе говорил Леонид Федорович?[ Ильичев Л. Ф. — секретарь ЦК КПСС с 1961 по 1965 год.] Я ответил: «Он сказал: хотите ли вы доделывать картину или считаете ее законченной?» Мы были с Сергеем Аполлинариевичем и ответили: «Нет, не считаем законченной, будем доделывать». […]
Что касается того, что я сегодня не выступил с программой и не сказал, как мы будем переделывать картину, ведь это было бы в высшей степени легкомысленно и непринципиально. Я сказал единственно то, что мог сказать, — что настроение у меня хорошее (и прошу его не портить), что я хочу сделать картину и не соглашусь с теми, кто выдвинет позицию, что ее надо класть на полку. Мы не будем этого делать.
Н. Петров, директор фильма «Застава Ильича». Недопустимо, чтобы и дальше группа находилась в той атмосфере недоверия, нервозности, напряженности, в которой она находилась в последний период работы над картиной… Когда будут производиться съемки, не должно быть такого отношения, для чего это делается, для чего это нужно?.. А такая позиция у начальника производства есть. Не знаю, может быть, это его субъективное мнение. Есть мнение, что картину нужно положить на полку. Подходят некоторые товарищи и говорят: «Ты обязан положить партбилет за то, что разрешил снимать эту картину». «Я положу его вместе с вами», — ответил я им. Это не позиция доброжелательства. […]
С. Рубинштейн, редактор. То, что говорили руководители партии и правительства, то, что говорил Н. С. Хрущев, нам принесло огромную пользу и послужит большим уроком. Они преподали нам и пример человечного отношения к людям, доверия к ним, желания воспитывать из них советских граждан. И мы никак не можем заподозрить, что Хуциеву, Шпаликову и кому угодно что-нибудь угрожало бы, если бы они не сразу признали свою неправоту.
Я была в МК, когда т. ПоликарповПоликарпов Д. А. — зам. зав. Идеологическим отделом ЦК КПСС с 1962 по 1965 год. говорил: «Сейчас другие времена, сейчас людям, которым дороги интересы народа, даже если они ошибаются, но если мы им верим, мы предоставляем право исправлять ошибки, говорить о своих ошибках». Когда-то в сталинские времена, мрачные времена, за картину неправильно сделанную, жестоко наказывали и даже сажали. Сейчас Н. С. Хрущев обрушивает справедливый гнев, говорит очень резко, но он смотрит человеку в глаза с желанием помочь ему исправить свои ошибки. Как же Мария Павловна могла так подумать? Можно было еще представить себе, что вы, Мария Павловна, плохо думаете о картине. Но я не понимаю, как вы могли плохо подумать об этих людях — Хуциеве и Шпаликове. А вы их знаете. Они получили серьезный урок, они должны подумать, как им исправить свои ошибки. И мы с вами — мы тоже несем свою вину. И мы говорим это не из фарисейских соображений. Партия нас учит не только критиковать, но и помогать человеку в преодолении ошибок. Действительно совершены большие ошибки, и мы все виноваты в том, что мало критиковали Хуциева, чаще хвалили, мало критиковали с трибуны, больше где-то в коридоре, в комнате. Н. С. Хрущев критиковал его с позиции доверия. Он сказал прямо, резко, сурово, но сказал отечески и этим оказал помощь. На встрече в Кремле была совершенно не та атмосфера, которая здесь вдруг проявилась. Которая очень огорчительна. Мне кажется, все можно сделать, если человеку верят, а если не верят… Я верю Хуциеву и Шпаликову. […]
С. Ростоцкий. […] Я знаю, что М. Хуциев не скажет, а потому хочу вам сказать, что во время второго заседания, когда было уже ясно, что он не успеет выступить, он отправил Н. С. Хрущеву записку. И в этой записке было сказано: я очень много понял, Никита Сергеевич, и сделаю все, чтобы эта картина была помощником партии и служила народу. Я думаю, что это обязательство он взял перед очень высоким человеком. Другое дело, что мера ответственности его перед таким человеком очень велика.
Я. Сегель (Барабановой). А вы хотите, чтобы мы ему не верили и меряете мерой вчерашнего дня!
В. Марон, организатор кинопроизводства. […] Слова этой записки — это слова не только художника Хуциева, а это слова советского искреннего художника… Я не могу разделять мнение, что сейчас «начинают зажимать». Это абсурд!..
С начала запуска картины до конца ее сдачи она волновала всех. И мне только обидно одно: кто это устроил, как это случилось, что те товарищи, которые распинались здесь у нас, в киностудии, в союзе, сейчас стали ее охаивать. Это гнусно, мерзко, омерзительно! […]
Меня до глубины души взволновала эта записка. Я дважды читал доклад Хрущева, и у меня просто спазма сжимала горло. А представьте себе: сидят творцы картины, слышат все это… Надо было собраться с мыслями, чтобы написать такую записку…
М. Барабанова. Она была написана до выступления Хрущева.
В. Марон. Все равно нет никаких оснований им не доверять. И надо сделать так, чтобы не было никаких сюсюканий сценарного отдела, чтобы дана была возможность им спокойно работать.
Из стенограммы обсуждения плана переработки сценария «Застава Ильича» Первым творческим объединением от 6 мая 1963 года
С. Ростоцкий. Если представить себе на минуту, что Хуциев сказал бы, я показываю эту молодежь как нетипичную, я ее критикую, я ею недоволен, считаю, что она должна быть не такой, и поэтому показываю ее. Это одна постановка вопроса.
М. Хуциев. Каждое свое выступление я говорил только об этом…
С. Ростоцкий. Одно дело, Марлен, говорить, другое дело чувствовать. Значит, то, что ты думаешь об этой молодежи, не производит одинакового на всех впечатления. Одни могут подумать, как ты, другие иначе. Есть ли сейчас…
представление, что это передовая молодежь Советского Союза? Нет, потому что нет ни одной энергичной сцены, которая вызывала бы симпатии к герою. […]
Надо снимать главное обвинение, что ходят по фильму шалопаи, болтают… Это обвинение появляется потому, что герои на протяжении всей картины, за исключением вечеринки, не высказывают своего отношения к людям, которые ходят по ресторанам и занимаются всем этим довольно ярко. […] У этого парняИмеется в виду герой фильма «Застава Ильича» Сергей Журавлев (В. Попов)., на моих глазах проходящего по картине, нет никакого повода задавать вопрос: как жить? Я не вижу трагедий в его жизни. Он полюбил какую-то девицу, сам не понимает за что, у него с ней не получается, и он задает вопрос отцу: как жить? Ему нечего спрашивать: как жить? […]
Вот хороший парень, абсолютно точно сыгранный, но и в нем есть элемент этих ребят. Он рушит старые домаИмеется в виду герой фильма «Застава Ильича» Слава Костиков (С. Любшин).. Это прием, показывающий разрушение старого. Вы это придумали? Не вы. Но вы сделали интересно. Он бьет по старым домам, рушит старые дома, и все-таки он в сетях старого, что мешает ему, молодому, жить. Прекрасный замысел. Но чего-то не хватает. Если бы он шваркнул этой хреновиной, шваркнул так, чтобы развалился не один дом, а два, если бы он сделал это с таким настроением! Но получается: работа — отдельно, а он и его жизнь — отдельно. Есть огромная разница между отношением к труду в Советском Союзе и других странах. […]
Этого, к сожалению, в картине нет. У нас люди не работают так: восемь часов отработал и потом пошел жить. У всех нас жизнь идет здесь, на работе, и продолжается, когда мы возвращаемся домой. Искусственно отделить это невозможно: вот работа, а вот моральные проблемы. Другое дело, когда человек становится иллюстрацией… Я абсолютно уверен, что человек, так размышляющий, когда он сидит за этим краном, может это делать автоматически, а может делать с таким настроением… В первом случае я вижу, что работа для него — занятие неинтересное, а во втором — интересное. Но этого нет.
М. Хуциев. Я же не виноват: люди работают, у них спокойные лица, что же тут делать?
С. Ростоцкий. Я стараюсь тебя понять. Почему я тебе это говорю? Потому что говорил, говорю и еще буду говорить, что ты один из редких людей, сумевших показать в кино процесс труда поэтически, так, что он зажег меня, вдохновил… И я не устаю повторять: я хочу, чтобы на тебя переходила сила людей, идущих по экрану. А на тебя сейчас переходит их слабость. […]
Т. Лиознова, режиссер. Мне легче выступать, потому что я принадлежу к разряду людей, которые последовательно, с момента, когда началось создание этой картины, были неудовлетворены ее сутью, ее концепцией и направленностью. …Выступление Ростоцкого мне очень понравилось. Думаю, если бы такой разговор был с самого начала, таких бед не было бы. Волнение Ростоцкого мне в тысячу раз дороже твоего. Соберись. Будь до конца мужественным. Ростоцкий испытывает то же волнение, что и вея студия. Мне это дорого, я вижу в этом выражение и залог двухлетнего труда студии. И не надо обижаться… Я не буду говорить слов, каких ты наслышан, что эту картину делают талантливые люди. Ты много раз это слышал, и, вероятно, это в чем-то помешало. Ведь долгое время считалось просто неудобным выступать против этой картины, не принимать ее, потому что в другом лагере оказались умные люди, с которыми я тоже хочу быть рядом… Но вот вас поправили, и оказалось, не так уж мы были не правы. […]
Мне кажется, в сценарии много сцен можно было прочесть только в одном плане, но они сделаны так, что получилось иначе. Скажем, сцена, о которой говорил Н. С. ХрущевСм. с. 100.. Кажется, сцена написана очень ясно: тебе — двадцать три, мне — двадцать один, а я уже знал, за что умираю… Так мы ее прочли, имея в виду концепцию партийности, позицию человека, который хочет разобраться, что хорошо, что плохо. Но этого не произошло. И Никита Сергеевич как человек, как зритель это не принял. Это очень огорчительно. В чем же дело? Что произошло, почему зритель — более умный, более широко видящий весь строй нашей жизни, — так понял? Значит, ты неправильно решил, неправильно сделал акценты, неправильно расставил свою армию, которая состоит из актеров, операторов, режиссера, и не туда выстрелил…
Да, мы верим в твою искренность, почему же нам не верить: один хлеб по карточкам ели во время войны, я знаю, в каких условиях ты живешь, знаю, за удобствами не гоняешься… Правильно говорил Ростоцкий, что возникает вопрос: кто эти герои, друзья они тебе, ты за них или против? Поначалу я думала, что ты в меру своих художественных способностей тонко можешь разобраться с этим делом и доказать всю безосновательность такого образа жизни. Ты сейчас сказал Ростоцкому, что такая мысль у тебя была с самого начала. И правда, когда мы смотрели на студии, понятным казалось, как ты повел дело. Но я скажу, как и Стасик, — я тебе не верю. И скажу почему. Правильно сказал Стасик: ты не любуешься силой… На тебя герои, с которыми ты имел дело, повлияли, ты тогда же запутался и до сих пор не можешь распутаться, разобраться. Почему если ты хотел, не делая дураками, пошляками, показать людей, которые понимают что-то, умеют слушать Баха, но не умеют главного, не умеют созидать?.. Почему тогда снимаются такие люди, как Тарковский, Михалков?..А. Михалков-Кончаловский. Почему в «Сладкой жизни» режиссер с телеобъективом подглядывал героев, а потом они на него подали в суд, а эти по доброй воле пришли сюда?.. Разберись…
М. Хуциев. Перепробовали большое число артистов. И не получалось. Двадцать человек подходили и начинали задавать такое количество вопросов. Я искал людей, которые могут себя вести…
Т. Лиознова. Именно к этому я и веду. Когда Тарковский заламывает руки, он делает это так грандиозно, что нужно расставить очень многое в сторону главного героя, чтобы у него был перевес. Это делается с такой убедительностью, за этим такая тоска, непонимание того, куда же себя нацелить, что нужен какой-то большой перевес… Где-то неверно была расставлена твоя армия.
М. Хуциев. Я не решал так: хорошее — плохое, черное — белое. Говоря о том, что молодежь хорошая, я не решал это примитивно. Я высказывал определенные мысли. Я делал картину о людях, которые ищут свое гражданское место, о людях, не стоящих на передовой линии, не нашедших своей активной позиции, но старающихся найти ее. […]
Из стенограммы заседания партбюро киностудии имени М. Горького совместно с комиссией содействия органам партийно-государственного контроля от 13 мая 1963 года
М. Донской, режиссер. […] За последнее время у нас развелось большое количество склейщиков, у которых все благополучно, все они склеили, они расставили и положительных, и средних, и отрицательных героев, я все вижу с первых кадров, все расставлено по полочкам. А у тебя, как у художника, появилась мысль — дать фильм о раздумье. Но дело в том, что твои раздумья неверны. […]
Можно и нужно рассуждать о больших проблемах жизни, но о чем они рассуждают? Не думаю, что если дашь два производственных процесса на заводе, то он еще хуже будет выглядеть, потому что они разговаривают не таким языком, где видна ясность мысли. Он говорит, что, когда мы были маленькими, мы наглотались Ницше, взяли на вооружение Канта и начитались Шопенгауэра. Здесь беда состоит, как мне кажется, не в том, что герой несимпатичный, как здесь говорили, а в лексике, в фонетике, в пластическом поведении. Совокупность всех этих черт создает этот тип рассуждающих.
Шагают все-таки шалопаи, несмотря на то, что ты отрицаешь, что это шалопаи. Они даже курят шалопайски. Неужели в двадцать два — двадцать три года такое? Так нагнетено. Вы мне объясните, может, я устарел, совсем не знаю этого… Да и не хочу знать, не надо нам этого! Вот в чем наша беда. Подумай сам. Это какой-то неонигилизм. Берешь человека, делаешь его нигилистом, хочешь сейчас отправить его на завод, от этого он станет хуже. Заставь его волноваться! …Я хочу, чтобы в картине не было такого спокойного молодого человека, который пришел к девушке. …Приходит это утро, черт знает что! А он спокойно, как будто после любви с девушкой можно быть спокойным, он даже спасибо ей не сказал, не только цветочков не принес — не попрощался! Это какой-то нигилизм! Я бы девушке цветы принес, спасибо ей сказал бы, а потом уже до свидания. Что же это за манера стала! […]
По поводу рабочей атмосферы… Пожалуйста, пусть они ходят, пусть не знают, что с собой делать, но пусть умеют гневаться и радоваться. …Или вот пришли люди, что-то возвели, сделали. Так дай эту радость, чтобы душа запела. А у тебя он не гневается, не радуется. Он ходит, он курит, он смотрит. Он к одной девочке пошел, к другой девочке пошел. И ты хочешь, чтобы он одним эпизодом стал другим? Нет, не будет он другим. Теперь смотри, что получается. Твои герои ходят, ходят. Ты думаешь, в этом безразличии раздумье? Неверно. Ты абсолютно не умеешь монтировать. Да почти девяносто девять с половиной процентов из нас не умеют монтировать. Ты превратил это в двухсерийный фильм, затянул. он стал скучным. Ты, Марлен, думаешь: я покажу все, и делайте выводы, я не хочу никого поучать. Поучать не надо, но учить художник обязан, и ты можешь учить. Почему? Потому что ты честный и талантливый. Что же с тобой случилось? Тебя форма увлекла. Я еще раз посмотрел текст. Он какой-то нечеловеческий, он интеллигентствующий. Твой Шпаликов молодой хороший человек, но речи русской в таком качестве, которое тебе нужно, он не знает. […]
— Я, знаете, — смущенно призналась она, — когда в школе училась, одно время стихи вдруг писать стала.
— Я и то один разок тиснул в стенгазету. Про Поля Робсона…
— Я тоже писала общественные. Ко всем праздникам. И тоже в стенгазету. «Тихо колышутся ветви берез.
Вот наш родной подмосковный совхоз…»
М. Донской. А что это за унылость? Ты можешь обижаться на меня, но я считаю, что и людей ты подобрал благодаря твоему видению — ты плохо видишь… Ты взял Тарковского, худосочного, — кажется, плюнь на него, и он упадет, — ты и Вознесенского специально подобрал. Ты подобрал даже не фрондирующих молодых людей… Шалопаи ходят.
И не один я об этом говорю. И публично говорят. И уже в международном плане. Вы должны сказать: «Эй вы, мальчики, жалеющие меня, удалитесь от меня, я сам знаю, что делать! Убирайтесь от меня! Я понял вместе с товарищами, педагогами, председателем объединения и партийной организацией!» Нет, вы ничего не поняли. Я тебе сказал полтора года назад и недавно сказал, что можно договориться до… Давайте же договариваться. Я даже подумал: «Господи боже мой! Хорошо, что тебя Ильичев вызывал. Раньше не вызывали бы, милый, уже уехал бы!» А сейчас вызвали и говорят: «Здравствуйте, парень! Делайте, работайте!» Как хорошо, очень хорошо. И говорят от имени партии. Так давайте же делать со всем сердцем! […]
Г. Бритиков. Мне, наверно, труднее остальных выступать, потому что уж очень часто мы разбираемся, очень часто говорим и очень часто не получаем окончательного удовлетворяющего нас результата. …Говорят: Хуциев варится в собственном соку. Нет, он варится в каком-то соку, но только не в студийном, потому что все плечи, все подпорки, которые оказывали и оказывают Хуциеву поддержку со стороны студии, он отвергает и, вероятно, пользуется какими-то другими соками. …Я не знаю, как эти сорок три килограмма упорства и упрямства приспособят собственный вес: уж применялось все — применялись коллективные предложения — отвергались, применялись просьбы — отвергались, применялись уговоры — отвергались. […]
И Сергей Аполлинариевич продолжает смягчать положение, сам отлично понимая и оценивая его.
С. Герасимов. В чем я смягчаю? Что нужно делать — голову ему оторвать?
Г. Бритиков. Да вы готовы оторвать голову любому, но, вероятно, не Хуциеву. В чем вы смягчаете положение? Вы знаете, что интонацию вещи нужно менять трудовыми поступками героя. […]
С. Герасимов. Так что, я прятал это в карман?
Г. Бритиков. Дело в том, что Хуциев слушает не тех, кого ему нужно слушать. Я не знаю, кого он слушает. Что требует критика? Скажем мягко: изменения интонации фильма. Это значит, что наш герой, хотя бы один из трех, должен быть награжден трудом. Но он трудом не награжден. …Он стыдится проявлений каких-то активных поступков. …Наш герой опять бездейственный. Наградите героя поступками.., которые аккредитовали бы его трудом, которые дали бы возможность слушать его реляции, что он серьезно относится к 1937 году, в котором он не участвовал, что он хорошо относится к революции, к солдатам, но он никак не высказал своего отношения к современности. Если этого не будет, то, на мой взгляд, картина не получится. […]
С. Докучаев. О чем будет картина?
М. Хуциев. Картина будет о том, о чем и была. Мы должны сделать, чтобы заглавие «Застава Ильича» было до конца понятно. Картина о том, как у молодого человека складывается гражданское сознание и необходимость быть всегда активным гражданином своей родины. […]
С. Герасимов. […] Я внимательно слушал, что говорил Марлен Мартынович, правда, выходил, потому что сердце слегка схватило, но я не могу представить себе, чтобы автор при всем состоянии своего здоровья мог бы от подобной работы отойти. Это не тот автор — Марлен Хуциев. […]
Из справки киностудии имени М. Горького о состоянии работы над фильмом «Застава Ильича» на 2 июля 1963 года
Сценарный материал фильма «Застава Ильича» перерабатывается в свете критики, высказанной ЦК КПСС на страницах газеты «Правда» и в Идеологическом отделе ЦК.
План переработки фильма обсуждался Сценарно-редакционной коллегией студии совместно с Первым творческим объединением. В июне с. г. состоялось обсуждение этого плана на совместном заседании дирекции студии и президиума оргкомитета Союза работников кинематографии. В обсуждении принимали участие представители Идеологического отдела ЦК КПСС товарищи Куницын и Ермаш. […]
6 сентября 1963 года
И. О. Директора киностудии им. Горького тов. Оганджанову Н. А.
[…] Предлагаю директору студии под личную ответственность осуществлять повседневный контроль за тем, чтобы съемки новых сцен проводились в соответствии с одобренной Главным управлением режиссерской разработкой. […]
В. БаскаковБаскаков В. Е. — первый заместитель председателя Госкино СССР с 1962 по 1974 год. В. Шукшин. О фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет»
Я низко кланяюсь Марлену за мужество и решимость, и готовность идти на эти, мягко говоря, муки, на какие он пошел, пытаясь разобраться в наших молодых и немолодых делах. Если это слишком громко сказано, пожалуйста, я могу сказать иначе: мне нравится его огромная гражданская совесть, способность его души болеть за других. Нам, живым, никто никогда не давал готовых рецептов — как хорошо жить. Да и не верим мы в это — что можно так сделать. Я, как зритель, благодарен Марлену за его последнюю картину. Он не все сказал, наверно, не все смог (сумел) сказать, я благодарен Марлену за то, что он лишний раз заставил меня задуматься о жизни нашей, о себе самом (в смысле -обо мне), о том, как жить. Разве это не самая счастливая участь художника?!
«Искусство кино», 1965, N 4
Л. Кулиджанов. «Все в наших силах».
Из доклада на X пленуме Оргкомитета СРК СССР
Но, товарищи, разумно ли было — давайте разберемся честно — создавать тот нездоровый ажиотаж, свидетелями которого мы были? Стоило ли еще до выхода картины, до ее завершения уже объявлять ее классикой или приписывать ей некие тенденции, которые она не содержит? Многие из нас видели этот фильм еще тогда, два года назад, многих он поразил. Но сказали ли мы режиссеру о том, что нас не удовлетворяет? Слышал ли от нас режиссер достаточно обоснованные и хоть сколько-нибудь настойчивые советы и продуманные соображения, направленные к тому, чтобы прояснить драматургию фильма, освободить его от тех слабостей, которые могли помешать и помешали, как мы видим, его зрительскому успеху? Все это огорчительно: талантливый фильм многое потерял из-за того, что его авторы не поверяли свою работу законами зрительского восприятия.
«Искусство кино», 1965, N 7
Р. Н. Юренев. «Вчера, сегодня, завтра»
Свободная композиция фильма, не объединенного четким сюжетом, сложное течение мысли автора, недостаточная ясность некоторых эпизодов привели к тому, что идея преемственности поколений советских людей, о верности нашей молодежи революционным и патриотическим традициям их отцов и дедов… настойчиво и вместе с тем художнически своеобразно проводимая авторами, не была достаточно ясна. Фильм подвергся переработке, несколько изменившей его художественную структуру.
«Краткая история советского кино». М., 1979
С А. Герасимов. «Я услышал в нем родной голос…»
Сложно и драматично сложилась судьба очень важной картины, которая раньше называлась «Застава Ильича», а потом стала известна под названием «Мне двадцать лет». Не только содержанием, но и всем своим душевным составом картина эта имела в виду нравственную близость к зрителю поколения отцов, победителей во второй мировой войне… Ее судили по законам прагматической полезности сюжета, степени положительности героев. Это был типичный случай истолкования по принципу сложившихся стереотипов. Фильм с ними не совпадал.
«Искусство кино», 1985, N 11
Из решения комиссии по конфликтным творческим вопросам СК СССР
Просмотрев фильм «Застава Ильича» (1962 г., сценарий Г. Шпаликова, режиссер М. Хуциев, студия им. М. Горького), комиссия сочла безосновательной переработку произведения, к которой были вынуждены авторы руководством кинематографии того времени. Редактура сцен, где молодые герои ведут диалог о формах и морали жизни с «отцами», воспринимается прямым замазыванием начавших тогда вырисовываться противоречий реальности. Изъятие эпизода «Политехнический» — это нарушение художественной правды фильма, сочетающей мир чувств и мыслей героев с подлинными жизненными фактами.
В связи с тем, что «Застава Ильича» бесспорно является ключевым произведением начала 60-х годов, комиссия находит настоятельно необходимым провести работу по восстановлению авторской версии картины…
Утверждено секретариатом правления СК СССР 14 мая 1987 года
«Застава Ильича»
Между тем ситуация в высших киношных кругах продолжает оставаться напряженной. Письмо в защиту своего выступления в ВТО Михаил Ромм написал на собственной даче в феврале 1963 года, то есть спустя три месяца после скандала. Почему режиссер тянул с этим письмом столь долго, в общем-то понятно: не хотел извиняться перед Кочетовым и K°. Однако почему он его все-таки написал? Здесь существуют две версии. Согласно первой, на Ромма давили высшие инстанции, согласно второй — письмо родилось как одна из попыток спасти Союз работников кинематографа, над которым нависла угроза ликвидации.
В сущности, понять власти было можно. За последнее время в кинематографической среде случилось такое количество скандалов с идеологическим уклоном, что это наводило кремлевское руководство на мысль о явном неблагополучии в руководящем звене СРК. Конечно, можно было это звено заменить, однако Хрущев пошел другим путем. По совету все того же Ильичева, который опирался на мнение интеллигентов-державников в лице писателей Всеволода Кочетова, Анатолия Софронова, Николая Грибачева и других, он решил вообще ликвидировать СРК как рассадник крамолы, а все киношное хозяйство перевести под юрисдикцию нового учреждения — Госкомитета СМ СССР по кинематографии, указ о создании которого был уже фактически готов (до этого существовал просто Комитет по кинематографии при Совете министров).
Немалую роль при этом сыграл один из новых фильмов, который Хрущев посмотрел при содействии все того же Ильичева. Это была картина Марлена Хуциева «Застава Ильича», которая рассказывала о современной молодежи: трех молодых москвичах, которые живут в одном дворе в центре столицы и чуть ли не все дни напролет проводят вместе (в этих ролях снялись Валентин Попов, Николай Губенко и Станислав Любшин). Это была талантливая картина, но с точки зрения существующей идеологии у нее оказался один существенный изъян: в ней герои вели настолько будничную жизнь, что места для подвига в ней не оставалось. Как скажет один из критиков фильма: «Это какие-то шалопаи, а не советские парни». Критик, конечно, был неправ: это были хорошие ребята, другое дело, что без героического блеска в глазах. Они никого не спасали, ни с кем особо не боролись, а если с кем-то и были не согласны, то полемизировали без особого энтузиазма, вяло как-то.
Для такого мастера, как Хуциев, это была по меньшей мере странная картина. Ведь несколько лет назад он создал (вместе с Феликсом Миронером) культовое кино про рабочий класс — «Весну на Заречной улице». А тут взялся за молодежную тему и снял такую же талантливую по своему художественному воплощению, но вялую по своему настрою картину по сценарию Геннадия Шпаликова.
Ильичеву фильм резко не понравился, но это была не единственная причина, из-за которой он решил затеять большую интригу. Он узнал, что ярым сторонником картины была Екатерина Фурцева, к которой он питал неприязненные чувства и считал виновной в том, что творческая интеллигенция отбилась от рук (дескать, слишком либеральничает министр с нею). В итоге Ильичев устроил для Хрущева просмотр чернового материала к фильму, после чего глава государства впал в бешенство, особенно возмутившись эпизодом разговора главного героя со своим погибшим отцом. Из этого разговора Хрущев сделал вывод, что сын не знает, как ему жить, к чему стремиться.
В сущности, авторы фильма были правы: они чутко уловили зарождающийся в части советской молодежи пессимизм. Многих молодых людей начала 60-х годов, в отличие от их предшественников, уже не вдохновляли кричащие и зовущие в светлое коммунистическое завтра лозунги (как мы помним, Хрущев громогласно провозгласил, что коммунизм в Советском Союзе будет построен к 1980 году). И авторы фильма, вероятно, надеялись на то, что руководство страны, посредством их картины, обратит внимание на эту проблему: например, устроив честную публичную дискуссию. Но эти надежды не оправдались, да и не могли оправдаться.
Власть прекрасно отдавала себе отчет, что подобная дискуссия грозила окончательно расстроить то хрупкое согласие, которое установилось в обществе после еще более мощной критики культа личности Сталина на ХХII съезде. В памяти властей все еще свежи были события недавнего прошлого: когда творческая интеллигенция сломя голову ринулась «окучивать» тему сталинских репрессий, а властям с большим трудом удалось отбить этот натиск. Так что дискуссии о молодых людях, с пессимизмом смотрящих в будущее и не знающих, как им жить дальше, в советском обществе начала 60-х годов не могло быть по определению. Вот почему Хрущев был взбешен направленностью фильма и сделал для себя вывод, что кинематографистов надо продолжать учить уму-разуму. Поэтому когда Ильичев (при активной поддержке Козлова) предложил распустить СРК и создать Госкино, а контроль над ним поручить исключительно ЦК, а Минкульт этой прерогативы лишить, Хрущев согласился. Не стал он возражать и против новой профилактической беседы с интеллигенцией.
На этот раз встреча проходила в более вместительном месте — в Кремле, в Свердловском зале, который насчитывал порядка 600 мест (в Доме приемов на Ленинских горах людей вмещалось вдвое меньше). При этом вопросов для обсуждения в повестку дня было вынесено гораздо больше, из-за чего встреча растянулась на два дня (7–8 марта). Опальный Михаил Ромм на это рандеву тоже был приглашен. Поэтому сошлемся на его рассказ:
«Встает Хрущев и начинает:
— Вот решили мы еще раз встретиться с вами, вы уж простите, на этот раз без накрытых столов, без закусок и питья. Мы было хотели на Ленинских горах, но там места мало, больше трехсот человек не помещается. Мы решили на этот раз внимательно поговорить, чтобы побольше народу послушало. Ну вот приходится собираться здесь. Но в перерывах тут будет буфет — пожалуйста, покушайте…
Помолчал. Потом вдруг, без всякого перехода:
— Добровольные осведомители иностранных агентств, прошу покинуть зал.
Молчание. Все переглядываются, ничего не понимают: какие осведомители?
— Я повторяю: добровольные осведомители иностранных агентств, выйдите отсюда.
Молчим.
— Поясняю, — говорит Хрущев. — Прошлый раз после нашего совещания на Ленинских горах, после нашей встречи, назавтра же вся зарубежная пресса поместила точнейшие отчеты. Значит, были осведомители, холуи буржуазной прессы! Нам холуев не нужно. Так вот, я в третий раз предупреждаю: добровольные осведомители иностранных агентств, уйдите. Я понимаю: вам неудобно так сразу встать и объявиться, так вы во время перерыва, пока все мы тут в буфет пойдем, вы под видом того, что вам в уборную нужно, так проскользните и смойтесь, чтобы вас тут не было, понятно?
Вот такое начало.
Ну а потом пошло, пошло — то же, что и на Ленинских горах, но, пожалуй, хуже. Уже никто возражать не смел. Щипачеву просто слова не дали. Мальцев попробовал было что-то вякать про партком Союза писателей, на который особенно нападали (власти собирались его закрыть и распылить по другим местам: например, по столичным киностудиям. — Ф. Р.), но его стали прерывать и просто выгнали, не дали говорить.
Эренбург молчал, остальные молчали, а говорили только вот те — грибачевы и софроновы, васильевы и иже с ними. Говорили, благодарили партию и правительство за помощь. Благодарили за то, что в искусстве наконец наводится порядок и что со всеми этими бандитами (иначе их уже не называли — абстракционистов и молодых поэтов), со всеми этими бандитами наконец-то расправляются.
Кто-то сказал из этих: мы где в Европе ни бывали, всюду находили следы поездок этих молодых людей, которые утюжат весь мир. Утюжат и всюду болтают невесть что, и наносят нам вред…».
Прервем на некоторое время речь режиссера для короткой реплики. В словах Ромма сквозит неприкрытая ирония по адресу тех, кто нападает на художников-новаторов. Но ведь то была сущая правда: эти художники и в самом деле направо и налево раздавали интервью зарубежным журналистам, у которых была одна цель — расписать своим читателям об ужасах тоталитарного СССР. Если взять подшивки западных газет за те годы и просмотреть все заметки о Советском Союзе, то ни одной положительной среди них вы не обнаружите. Все — сплошь критические, описывающие, как партия «громит художников-абстракционистов, запрещает смелые фильмы, гнобит писателей-правдолюбцев», ущемляет права евреев (в марте 1963 года известный английский философ и математик, нобелевский лауреат Бертран Рассел даже написал открытое письмо Хрущеву, где обвинял советские власти в преследовании евреев). И если Ромм полагал, что западных журналистов больше всего интересует правда и поиски справедливости, то он жестоко ошибался: они всего лишь выполняли заказ своих хозяев, идеологов «холодной войны», для которых любая критическая информация из Советского Союза была удобной возможностью ткнуть первую в мире страну рабочих и крестьян лицом в дерьмо. Увы, но многие представители советской интеллигенции этого не понимали, считая, что цивилизованный Запад спит и видит, как бы помочь Советскому Союзу стать процветающей страной, где бы «расцветали все цветы». Это заблуждение и станет одной из причин последующего краха великой страны.
И вновь вернемся к рассказу Михаила Ромма, который продолжает описывать события первого дня той памятной встречи руководителей страны с творческой интеллигенцией в марте 1963 года:
«Шолохов вышел, помолчал, маленький такой, чуть полнеющий, но ладно скроенный, со злым своим, незначительным лицом, и коротко сказал:
— Я согласен, говорить нечего, я приветствую.
Повернулся и сел…
(Недоброжелательное отношение Ромма к Шолохову объясняется просто: выдающийся писатель был одним из лидеров державников, постоянно разоблачал происки сионистов в СССР, поэтому и заслужил от либералов прозвище «главный антисемит СССР». Отсюда же растут и уши мнимого плагиаторства Шолохова — самого шумного проекта либералов на протяжении долгих десятилетий, вплоть до сегодняшних дней. — Ф. Р.)
Ну, вот так шел этот первый день. Рубали на куски так все инакомыслящее, так сказать, жевали прежнюю жвачку Ленинских гор, только уже на одной ноте, контрапункта не было. Не было такого, что выступает Грибачев, а ему отвечает Щипачев. Выступает такой-то, а ему отвечает Эренбург. Нет, все в одну трубу, главным образом по Эренбургу.
И вот пока это заседание шло, запомнил я лицо Козлова (Фрол Козлов — соратник Хрущева, член Президиума ЦК КПСС. — Ф. Р.). Сидел он не двигаясь, не мигал. Прозрачные глаза, завитые волосы, холеное лицо и ледяной взгляд, которым он медленно обводил зал, как будто бы все время пережевывал этим взглядом собравшихся. Так холодно глядел.
А Хрущев все время кипел, все время вскидывался, и Ильичев ему поддакивал, а остальные были недвижимы.
Пришлось в этот первый день выступать и мне. И опять выяснилась на этом выступлении какая-то удивительная сторона Хрущева.
От меня ждали покаянного выступления. Поэтому едва я записался, мне тут же дали слово. Я даже не ожидал — моментально.
Я вышел и с первых слов говорю:
— Вероятно, вы ждете, что я буду говорить о себе. Я говорить о себе не буду, эта тема, как мне кажется, недостаточно значительная для данного собрания. Я буду говорить о двух моментах. Я прежде всего хочу поговорить о картине Хуциева (о «Заставе Ильича». — Ф. Р.).
И начал заступаться за картину Хуциева и, в частности, разъяснять смысл эпизода свидания отца с сыном, когда сыну видится мертвый отец, и кончается этот разговор тем, что он спрашивает его: «Как же мне жить?» — а отец отвечает: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два». — «А мне двадцать», — отвечает отец и исчезает.
Я и говорю Хрущеву: ведь смысл этого в том, что ты же старше меня, ты должен понимать, я же понимал в твои годы и умер за советскую власть! А ты что?
И вдруг Хрущев мне говорит:
— Не-ет, нет-нет-нет, — перебивает он меня. — Это вы неправильно трактуете, товарищ Ромм, неправильно трактуете. Тут совсем другой смысл. Отец говорит ему: «Тебе сколько лет?» — «Двадцать два», — и исчезает. Даже кошка не бросит котенка, а он в трудную минуту сына бросает. Вот какой смысл.
Я говорю:
— Да нет, Никита Сергеевич, вот какой смысл.
Он опять:
— Да нет!..
Стали мы спорить. Я слово, он — два, я слово — он два. Наконец, я ему говорю:
— Никита Сергеевич, ну пожалуйста, не перебивайте меня. Мне и так трудно говорить. Дайте я закончу, мне же нужно высказаться!
Он говорит:
— Что я, не человек, — таким обиженным детским голосом, — что я, не человек, свое мнение не могу высказать?
Я ему говорю:
— Вы — человек, и притом Первый секретарь ЦК, у вас будет заключительное слово, вы сколько угодно после меня можете говорить, но сейчас-то мне хочется сказать. Мне и так трудно.
Он говорит:
— Ну вот, и перебивать не дают. — Стал сопеть обиженно.
Я продолжаю говорить. Кончил с картиной Хуциева, завел про Союз. Союз-то наш был накануне закрытия. Состоялось постановление Секретариата ЦК, чтобы ликвидировать Союз кинематографистов, и уже была назначена ликвидационная комиссия. Все! Союза, по существу, уже не было. Но я сделал вид, что вот ходят слухи о ликвидации Союза, но, мол-де, Союз по таким-то, таким-то и таким-то причинам нужен.
Он меня перебивает:
— Нет, разрешите перебить все-таки вас, товарищ Ромм. Это все должно делать Министерство культуры.
Я ему говорю:
— Министерство культуры не может этого делать, у него для этого возможностей нет. Скажем, послать творческую комиссию в Азербайджан или куда-то. Да кроме того, это денег будет стоить. Ведь наш-то Союз ничего не стоит государству, мы же на самоокупаемости.
Закончил я выступление. Потом выступил Чухрай, он хорошо уловил необходимый тон. Начал он с того, как он рубал абстракционистов в Югославии, как держался, а закончил так же: что нужно сохранить Союз.
И вдруг Хрущев объявляет перерыв и после перерыва начинает так:
— А знаете, товарищи, раскололи наши ряды кинематографисты. Вот мы было уже закрыли им Союз, а вот послушали и подумали: а может, оставить?
Ну, мы вскочили и говорим:
— Оставить!
— Давайте оставим. Только вы уж смотрите!
Нет, вы подумайте: накануне Секретариат ЦК запретил, я сказал несколько слов, несколько слов добавил Чухрай, и он решил — оставить!
Вы знаете, даже радости от этого не было…».
Трудно сказать, какая точно причина подвигла Хрущева пойти против воли Секретариата и сохранить Союз кинематографистов. То ли и в самом деле заступничество Ромма и Чухрая, то ли все произошло по воле импульсивного характера самого Хрущева. Но факт остается фактом: решение было переиграно в считаные часы.
На следующий день, 8 марта, состоялось продолжение встречи. Началось оно с большого доклада Хрущева, в котором тот суммировал события вчерашнего разговора и дал программные установки собравшимся на ближайшее будущее. Поскольку этот доклад занял много места, позволю себе процитировать лишь некоторые места из него:
«Нашему народу нужно боевое революционное искусство. Советская литература и искусство призваны воссоздать в ярких художественных образах великое и героическое время строительства коммунизма, правдиво отобразить утверждение и победу новых, коммунистических отношений в нашей жизни. Художник должен уметь видеть положительное, радоваться этому положительному, составляющему существо нашей действительности, поддержать его и в то же время, разумеется, не проходить мимо отрицательных явлений, мимо всего того, что мешает рождению нового в жизни.
Каждое, даже самое хорошее дело имеет свои теневые стороны. И самый красивый человек может иметь изъяны. Все дело в том, как подходить к жизненным явлениям и с каких позиций их оценивать. Как говорят, что ищешь, то и находишь. Непредубежденный человек, активно участвующий в созидательной деятельности народа, объективно видит и хорошее и отрицательное в жизни, правильно понимает и верно оценивает эти явления, активно выступает за утверждение передового, главного, того, что имеет решающее значение в общественном развитии.
Но тот, кто смотрит на нашу действительность с позиций постороннего наблюдателя, не может увидеть и воссоздать правдивой картины жизни. К сожалению, бывает так, что некоторые представители искусства судят о действительности только по запахам отхожих мест, изображают людей в нарочито уродливом виде, малюют свои картины мрачными красками, которые только и способны повергнуть людей в состояние уныния, тоски и безысходности, рисуют действительность сообразно своим предвзятым, извращенным, субъективистским представлениям о ней по надуманным ими худосочным схемам.
Прошлый раз мы видели тошнотворную стряпню Эрнста Неизвестного и возмущались тем, что этот человек, не лишенный, очевидно, задатков, окончивший советское высшее учебное заведение, платит народу такой черной неблагодарностью. Хорошо, что таких художников у нас немного, но, к сожалению, он все-таки не одинок, среди работников искусства. Все видели и некоторые другие изделия художников-абстракционистов. Мы осуждаем и будем осуждать подобные уродства открыто, со всей непримиримостью.
Товарищи! Наша партия считает советское киноискусство одним из самых важных художественных средств коммунистического воспитания народа. По силе воздействия на чувства и умы людей и по охвату широчайших масс народа ничто не может сравниться с киноискусством. Кино доступно людям всех слоев общества и, можно сказать, всех возрастов, от школьников до стариков. Оно проникает в самые отдаленные районы и селения.
Вот почему Центральный Комитет партии с таким вниманием и требовательностью подходит к вопросам развития советского киноискусства.
Мы видим и высоко оцениваем достижения в области художественной кинематографии. И, вместе с тем, считаем, что достигнутое не отвечает нашим задачам и тем возможностям, которыми располагают деятели киноискусства. Мы не можем быть равнодушными к идейной направленности киноискусства и художественному мастерству выпускаемых на экраны кинофильмов. В этом отношении дела в области кино обстоят далеко не так благополучно, как представляют себе многие киноработники.
Большое беспокойство вызывает то обстоятельство, что в кинотеатрах демонстрируется множество весьма посредственных кинокартин, убогих по содержанию и немощных по форме, которые раздражают или повергают зрителей в состояние сонливости, скуки и тоски.
Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича». Картина ставится режиссером тов. М. Хуциевым на киностудии имени Горького, под художественным руководством известного кинорежиссера тов. С. Герасимова. Надо прямо сказать, что в этих материалах есть волнующие места. Но они по сути дела служат прикрытием истинного смысла картины, который состоит в утверждении неприемлемых, чуждых для советских людей идей и норм общественной и личной жизни. Поэтому мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы.
Об этом можно было бы и не говорить, так как работа над фильмом еще не закончена. Но поскольку в нашей печати и в некоторых публичных выступлениях литераторов и деятелей кино всячески расхваливаются «выдающиеся качества» этого фильма, необходимо высказать и наше мнение.
Название фильма «Застава Ильича» аллегорично. Ведь само слово «застава» означало раньше «сторожевой отряд». Да и теперь этим словом называются наши пограничные форпосты на рубежах страны. Видимо, надо полагать, что основные персонажи фильма и представляют собой передовые слои советской молодежи, которые непоколебимо стоят на страже завоеваний социалистической революции, заветов Ильича.
Но каждый, кто посмотрит фильм, скажет, что это неправда. Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться. И это в наше время развернутого строительства коммунизма, освещенное идеями Программы Коммунистической партии!
Разве такая молодежь сейчас вместе со своими отцами строит коммунизм под руководством Коммунистической партии! Разве с такими молодыми людьми может наш народ связать свои надежды на будущее, поверить в то, что они станут преемниками великих завоеваний старших поколений, которые совершили социалистическую революцию, построили социализм, с оружием в руках отстояли его в жестоких схватках с фашистскими ордами, создали материальные и духовные предпосылки для развернутого строительства коммунистического общества!
Нет, на таких людей общество не может положиться — они не борцы и не преобразователи мира. Это — морально хилые, состарившиеся в юности люди, лишенные высоких целей и призваний в жизни.
В картине обозначено намерение показать в отрицательном плане и раскритиковать встречающихся еще среди нашей молодежи бездельников и полуразложившихся типов, которые никого не любят и не уважают; старшим они не только не доверяют, но и ненавидят их. Они всем недовольны, на все брюзжат, все высмеивают и оплевывают, проводят свои дни в праздности, а вечера и ночи — на гулянках сомнительного свойства. Такие типы с высокомерным презрением говорят о труде. Жрет этакий шалопай хлеб насущный, да еще и глумится над теми, кто создает этот хлеб своим нелегким трудом.
Свое намерение судить праздных людей, тунеядцев постановщики фильма не сумели осуществить. У них не хватило гражданского мужества и гнева заклеймить, пригвоздить к позорному столбу подобных выродков и отщепенцев, они отделались лишь слабой пощечиной негодяю. Но таких подонков пощечиной не исправишь.
Постановщики картины ориентируют зрителя не на те слои молодежи. Наша советская молодежь в своей жизни, в труде и борьбе продолжает и умножает героические традиции предшествующих поколений, доказавших свою великую преданность идеям марксизма-ленинизма. Хорошо показана наша молодежь в романе А. Фадеева «Молодая гвардия». И очень жаль, что С. Герасимов, ставивший фильм по этому роману, не посоветовал своему ученику М. Хуциеву показать в своей картине, как в нашей молодежи живут и развиваются замечательные традиции молодогвардейцев.
Я уже говорил вчера, что серьезные, принципиальные возражения вызывает эпизод встречи героя фильма с тенью своего отца, погибшего на войне. На вопрос сына о том, как жить, отец в свою очередь спрашивает сына — а сколько тебе лет? И когда сын отвечает, что ему двадцать два года, отец сообщает — а мне двадцать… и исчезает. И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит! Все знают, что даже животные не бросают своих детенышей. Если щенка возьмут от собаки и бросят в воду, она сейчас же кинется его спасать, рискуя жизнью.
Можно ли представить, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни?
А сделано так неспроста. Тут заложен определенный смысл. Детям хотят внушить, что их отцы не могут быть учителями в их жизни и за советами к ним обращаться незачем. Молодежь сама без советов и помощи старших должна, по мнению постановщиков, решать, как ей жить.
Что же, здесь довольно ясно выражена позиция постановщиков кинофильма. Но не слишком ли вы хватили через край? Вы что, хотите восстановить молодежь против старших поколений, поссорить их друг с другом, внести разлад в дружную советскую семью, объединяющую и молодых и старых в совместной борьбе за коммунизм? Можем со всей ответственностью заявить таким людям — ничего у вас из этого не выйдет! (Бурные аплодисменты.)
В наше время проблема отцов и детей не существует в таком виде, как во времена Тургенева, так как мы живем в совершенно другую историческую эпоху, которой присущи и другие отношения между людьми. В советском социалистическом обществе нет противоречий между поколениями, не существует проблемы «отцов и детей» в старом смысле. Она выдумана постановщиками фильма и искусственно раздувается не в лучших намерениях.
Так мы понимаем отношения людей в нашем обществе и хотим, чтобы эти отношения находили правдивое отображение в произведениях литературы, в пьесах, кинофильмах, музыке, живописи — во всех видах искусства. Кто этого еще не понимает, пусть задумается, а мы поможем им занять правильную позицию.
Позволительно спросить режиссера фильма товарища Хуциева и его шефа товарища Герасимова, как могла возникнуть у них идея такой картины?
Серьезные ошибки фильма очевидны. Казалось бы, что деятели кино, которые видели его, должны были откровенно и прямо сказать об этом режиссеру. А происходило вокруг картины нечто невероятное. Еще никто не видел фильма, а уже развернулась широкая рекламная кампания в международном масштабе, как о самом выдающемся «из ряда вон выходящем явлении в нашем искусстве». Зачем это нужно? Нельзя так поступать, товарищи, нельзя!..
В художественном мастерстве, в ясности и четкости идейных позиций — сила художественных произведений. Но, оказывается, это не всем нравится. Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир». Оценивая еще не вышедший на экран фильм «Застава Ильича», он пишет: «Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран все понимающего, на все имеющего четкий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы».
Возгласы: Позор!
И это пишет советский писатель в советском журнале! Нельзя без возмущения читать такие вещи, написанные о старом рабочем в барском пренебрежительном тоне. Думаю, что тон подобного разговора совершенно недопустим для советского писателя…».
Больше о кино в своем докладе Хрущев впрямую не вспоминал, однако ряд проблем, затронутых им, касались кинематографа косвенно. Например, ситуация вокруг культа личности Сталина. После ХХII съезда КПСС, где Хрущев повел новую атаку на Сталина и способствовал выносу его тела из Мавзолея (октябрь 1961 года), деятели литературы и искусства из стана либералов с особенной настойчивостью бросились осваивать эту тему в своих произведениях. Причем, несмотря на то что после ХХ съезда КПСС партия и лично Хрущев неоднократно подчеркивали в различных документах, что огульная критика Сталина недопустима, либералы продолжали с завидным упорством дуть в свою дуду: разоблачать Сталина. И этот вал разоблачений всерьез напугал руководство страны.
В итоге была спущена директива о серьезной фильтрации этого потока. И в том же кинематографе фильмы о культе личности практически не снимались, а если таковые и были запущены в производство, то они касались этой темы не прямо, а косвенно. Например, на «Мосфильме» был закрыт проект Александра Алова и Владимира Наумова «Закон», где весь сюжет вращался вокруг сталинских репрессий, зато были запущены два фильма, где эта тема лишь всплывала на дальнем фоне, либо упоминалась вскользь. Речь идет о картинах Владимира Басова «Тишина» (по Ю. Бондареву) и Александра Столпера «Живые и мертвые» (по К. Симонову), которые запустились в производство аккурат накануне марта 62-го года.
Касаясь культа личности Сталина, Хрущев в своем докладе сказал следующее:
«Партия со всей непримиримостью осудила и осуждает допущенные Сталиным грубые нарушения ленинских норм партийной жизни, произвол и злоупотребление им властью, причинившие серьезный ущерб делу коммунизма. И при всем этом партия отдает должное заслугам Сталина перед партией и коммунистическим движением. Мы и сейчас считаем, что Сталин был предан коммунизму, он был марксистом, этого нельзя, не надо отрицать. Его вина в том, что он совершал грубые ошибки теоретического и политического характера, нарушал ленинские принципы государственного и партийного руководства, злоупотреблял доверенной ему партией и народом властью…
Удивление вызывает, когда в иных произведениях литературы, кинофильмах и спектаклях всячески расписываются унылые и тоскливые переживания людей по поводу трудностей в их жизни. Так изображать картины жизни могут только люди, которые сами не участвуют в созидательной деятельности народа, не увлечены поэзией его труда и смотрят на все со стороны. По личному опыту, могу сказать, как участник событий в те годы, которые изображаются иногда в мрачных красках и серых тонах, что это были счастливые, радостные годы, годы борьбы и побед, торжества коммунистических идей…».
В этом месте зал взорвался продолжительными аплодисментами, хотя многие из присутствующих этих слов не разделяли. Например, находившийся здесь же Александр Солженицын спустя несколько лет начнет писать свою знаменитую книгу «Архипелаг ГУЛАГ» — произведение, которое нанесет мощнейший удар по советской идеологии и будет способствовать развалу СССР.
В целом советские кинематографисты могли быть довольны общими итогами этой встречи в Кремле — ведь на ней удалось сохранить Союз работников кинематографа. Особенно доволен мог быть Иван Пырьев, который не только сохранил СРК и остался на посту его руководителя, но и был свидетелем высочайшей обструкции, которая с высокой партийной трибуны обрушилась на его давнего недоброжелателя и конкурента — одного из руководителей киностудии имени Горького Сергея Герасимова.
Как мы помним, отношения между двумя мэтрами советского кинематографа давно были сложными, но в последнее время они заметно обострились. До истории с «Заставой Ильича» «на коне» был Герасимов. Во-первых, в творческом плане — в то время как последний фильм Пырьева «Наш общий друг» в кинопрокате-61 провалился (собрал 22 миллиона 400 тысяч зрителей), фильм Герасимова «Люди и звери» не только стал одним из фаворитов кинопроката-62, собрав на своих сеансах 40 миллионов 330 тысяч зрителей, но и был тепло встречен критикой. Во-вторых, мосфильмовский клан впал в немилость после скандала с Михаилом Роммом, и это больно ударило по руководителю СРК. Короче, Пырьев спал и видел, когда наконец праздник придет и на его улицу, и вот наконец дождался: сам Хрущев с высокой партийной трибуны бросил упрек в сторону Герасимова, уличив его в плохом руководстве.
Этот упрек задел мэтра за живое и подвиг его на немедленные оргвыводы. Руководству киностудии имени Горького предстояло в кратчайшие сроки «разрулить» ситуацию с фильмом «Застава Ильича», и эта работа закипела в первые же дни после встречи в Кремле. В итоге уже 12 марта на студии состоялось заседание Первого творческого объединения, в повестку дня которого был вынесен один вопрос: о злополучном фильме Хуциева. Поскольку материалы обсуждения занимают несколько десятков страниц, ограничусь отрывками из наиболее интересных выступлений.
С. Герасимов (режиссер): «На чем партия концентрировала сейчас свое внимание?.. Партия… выступила решительно за сохранение норм реалистического искусства и решительно отвела всякие попытки реставрировать антиреализм как некую принципиально возможную форму художественного творчества у нас, в Союзе. Тут… существует еще, может быть, среди художников, в частности, молодежи… такое мнение, что это дело, имеющее временный характер… Это наивная позиция, потому что если бы не тут, то там возникла бы необходимость побеседовать по этому важному вопросу, не у художников, так у нас, — в конце концов, это проявление одной и той же тенденции, которая, кроме того что она антиреалистична по форме, по сути прикрывает собой определенные идеологические отступления. Ну так, как, скажем, всякая отвлеченность, всякого рода абстракция, независимо от того, живописная она или литературная, имеет целью зашифровать, спрятать от народа истинные убеждения художника, завуалировать их в такой форме, которая дает право истолковывать каждому на свой вкус произведения, которые якобы не представляют общественного предназначения, которые представляют нечто лично принадлежащее одному художнику.
Я лично не смог бы никогда остаться на такой позиции или разделять ее хотя бы частично, потому что являюсь реалистом и считаю, что это основа основ художественного творчества, а не там, где начинается или сознательная игра с народом в запутывание, более или менее многозначительное, или безумная стряпня, которая стоит на грани шарлатанства, а с другой стороны, на грани коммерческой деятельности.
Это — необходимая борьба нашего реалистического фронта с попытками протащить антиреалистические работы из своей комнаты, из своих личных антресолей перед лицом народа.
Однако, разумеется, дело не только в том, чтобы механически прекратить приток такой продукции народу. Не эту цель преследует партия, цель значительно более глубокая, поэтому это делается не в административном порядке, а в процессе широкой беседы, куда привлекаются сотни художников. Цель такая: на принципиальной основе поставить генеральные вопросы идеологического строительства в нашей социалистической стране, поставить их откровенно, со всей большевистской прямотой, без всяких экивоков и извинений. Представляя собой народное сознание, народную волю, партия со всей серьезностью ставит эти вопросы, чтобы всякие попытки уйти от откровенного разговора были бы вскрыты, разоблачены и стали предметом широкой свободной дискуссии, что и имело место…
Даровит ли Вознесенский? Это не вызывает сомнения. Но верно сказал Н. С. Хрущев, полемизируя с ним, когда тот был на трибуне. Он высказал в высшей степени верную мысль, которую очень бы хотелось донести до молодых и не только молодых людей, указывая на главный недостаток Вознесенского. Это переоценка собственной личности, ощущение самоисключительности: я феномен, а вследствие этого мне подвластны суждения, которые могут даже не проверяться народной совестью, народным разумом, я над народом. Я сказал бы со всей решительностью, что такая позиция всегда вызывает у меня раздражение… незрелая молодость в высшей степени подвластна страсти переоценки собственной личности. Тут сказывается ощущение избытка своих физических сил, хотя это меньше всего можно относить к моему другу Марлену Мартыновичу (Хуциеву. — Ф. Р.), да и Вознесенский не представляет собой физического титана, он человек довольно легкого веса. При всем несомненном присутствии большого таланта у него несколько кружится голова. Кружится она и у Евтушенко. Это стремление смотреть с наспех завоеванных высот, встать на позиции гения, вещать наподобие пифии. Это позиция, ничего общего с нашей коммунистической моралью не имеющая…
При всей любви к моему другу А. Тарковскому не могу не сказать, что у него тоже кружится голова, о чем свидетельствуют его статьи…
К чему я это все говорю? Есть основания у партии рассердиться на художников? Да, тысячу раз есть! Причем все это подается под видом поисков правды, стремления обрушиться на то, что осталось нам в наследство от культа личности Сталина и прочего бюрократического сталинского управления, а под эту бирку протаскивают просто бессовестную критику или, вернее, бессовестное критиканство всего нашего строя (выделено мной. — Ф. Р.). И вот, как говорят в таких случаях, этот номер не пройдет. Так что повод есть…»
М. Хуциев (режиссер): «Делая картину, мы ни на секунду ни в какой мере не пытались стоять на каких-то неискренних позициях и делать что-либо противное тому, чему мы служим, то есть своей родине, народу и партии. Наши намерения всегда были самыми искренними. И какой бы счет мне в жизни ни предъявляли, я никогда не скажу, что что-либо сделанное мною сделано не из искренних побуждений… Что касается картины, то поскольку желание наше заключается в том, чтобы картина служила своей стране, народу, то, естественно, мы не собираемся стать в позу и сказать: работать дальше мы не можем. Мы хотим дальше работать, хотим, чтобы картина была завершена и стала достойной названия, в которое мы вкладываем гражданский смысл. Это мое желание и желание Шпаликова, наша позиция едина. Мы будем делать все, чтобы картина получилась в том виде, в каком она могла бы сыграть свою практическую — я подчеркиваю — практическую роль в той борьбе с остатками прошлого, с наследием культа, в борьбе за наше общее будущее, коммунизм, которую ведет весь народ и партия…»
Г. Шпаликов (сценарист): «Выступление Хрущева и все, что на совещении касалось нашей картины, еще раз убедило меня в том, что это была не пустая затея, не пустой номер, это не была картина на „ширпотреб“, это была серьезная работа, в которой, как выяснилось, мы в чем-то очень серьезно просчитались. И Марлен Хуциев, и я, и вся творческая группа считаем, что было бы равносильно самоубийству стать в позу и считать, что дело кончено, что мы такие художники, что эта картина будет какое-то время лежать, а потом выйдет в свет. Это было бы предательством и по отношению к картине, и по отношению к зрителю и к большому коллективу студии, который потратил так много сил и нервов на эту работу…»
С. Герасимов: «Авторы… высказали свою ответственную позицию. Я не могу согласиться только с одним положением выступления, но отношу его за счет нервного состояния авторов. Ведь дело не только в том, что вы подводите всю студию, весь коллектив. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что два молодых художника выступают с совершенно определенной идеологической концепцией, имеющей чрезвычайно важное значение, ибо она касается позиции молодежи в важнейшем процессе борьбы за коммунизм. И речь здесь идет не о том, чтобы заняться приглаживанием, причесыванием невышедшего произведения, речь идет о том, чтобы глубоко осмыслить суть критики партийного руководства по адресу этой работы и сделать для себя далеко идущие выводы. Это я говорю без всяческих отеческих ламентаций. Я вижу перед собой вполне зрелых художников, это совершенно очевидно, одаренных художников, которые, однако, по моему глубокому убеждению… не продумали, не прочувствовали до конца суть поставленной перед ними проблемы…
Огромное общее дело — помогай, не стой в позиции критиканов, которые стоят на обочине и делают более или менее ядовитые замечания по тому или иному поводу. Помогай! Этот пафос вовлечения в общее дело должен стать пафосом нашей работы на студии. Могут найтись товарищи в нашем коллективе, которые бросят кучу негативных соображений: это не так, это не эдак. А здесь нужно помогать и сказать — как, а негативная критика — это дело в высшей степени легкое».
С. Ростоцкий (режиссер): «Я целиком присоединяюсь к тезису Сергея Аполлинариевича, что партия имела право рассердиться. Имела право и могла бы даже больше рассердиться, чем рассердилась. Мы видели это во время заседания, понимали, на основе чего это происходит. И это можно понять даже просто по-человечески. Первое, что я хотел сказать, это то, что в некоторой степени мы здесь виноваты все. Порою относясь хорошо к художнику, к человеку, любя его, мы его вообще губим. Ведь было бы нечестно сказать сейчас, что мы не могли предвидеть того, к чему мы пришли. Мы это могли предвидеть. Во всяком случае, могли предвидеть те, кто имел свой собственный личный опыт. Мы слишком берегли Хуциева. Я его сегодня не буду беречь, потому что думаю, что для него сейчас важно, чтобы мы его не берегли на определенном этапе, тогда мы его сбережем…
Я хочу сказать, в чем я лично понимаю партийность. В страстности, страстности художника — за что он, против чего он. В данном случае я вообще говорю о партийности. Может быть партийность врага, может быть наша коммунистическая партийность, но партийность обязательно подразумевает под собой убежденность и страстность.
Я хочу, чтобы Хуциев и Шпаликов — я понимаю их волнение, я понимаю, как им трудно, — помнили, что они отвечают не только за критику, не только перед студией, но, если хотите знать, даже перед будущим развитием нашего киноискусства, потому что любая такого рода неудача, ошибка может затормозить развитие искусства в нужном партии направлении…
Первый вопрос — это взаимоотношения отцов и детей… Это вопрос и политический, и партийный, и даже просто человеческий. Я не хочу говорить сейчас, что они специально хотели столкнуть отцов и детей, хотели они, может быть, не этого, но тем не менее чувство такое из фильма могло родиться…
Я говорю об этом не в порядке обвинения, не в порядке критики, потому что ту критику, которая была, не покрыть другой критикой, я говорю об этом для того, чтобы задуматься о дальнейшем. Если может быть чтение фильма в плане противопоставления поколений, если возможно толкование определенных сцен по этой линии, я думаю, по суду большой правды этого не должно быть. Это надо исправлять. Я убежден, что эта проблема — отцов и детей — надуманна…
Когда мы говорим: это плохо… это плохо… это плохо… — мы должны серьезно вдуматься в это. Вроде эта позиция благородная. Я художник, указываю партии на какие-то определенные промахи в нашей жизни, на то, что в нашей жизни происходит не так, и т. п. Но, товарищи, так же как и в нашем сегодняшнем обсуждении, позиция человека, который говорит: «Это плохо, я против этого, это нужно исправить, нужно сделать так, и это возможно сделать», — такая позиция всегда сильнее, чем позиция человека, который просто говорит: «Это плохо… и это плохо…»
Вот «Девчата». Фильм пользуется успехом в мире. За границей пишут: конечно, никто не поверит, что советские лесорубы так живут, но, в общем, ребята они хорошие. Враждебно настроенная пресса не хочет верить, что эти лесорубы так живут! Дело не в том, что нужно лакировать, но нужно искать глубинные процессы, которые ведут к утверждению, а не только к отрицанию (выделено мной. — Ф. Р.).
Я глубочайшим образом убежден, что наше искусство действительно, на самом деле должно быть оптимистическим, обязательно должно быть оптимистическим, потому что философия, которой мы располагаем, — это философия оптимистическая, философия утверждения жизни, победы правды…
Вот о сцене, о которой говорит Никита Сергеевич, по поводу более активного осуждения бездельников. «В этом фильме есть тенденция осуждения молодежи, которая бездельничает, — говорил Никита Сергеевич, — проводит время так-то и так-то, но тенденция не выражена». И мы с этим все согласны, потому что мы говорим о «Заставе Ильича», говорим о ленинских нормах жизни. Представьте себе действительно по-настоящему людей, которые знают страну, которые знают, сколько нужно было сил партии, чтобы люди ехали на целину, и пусть там были трудности, недостатки, но эти люди знают, что это дало стране, представьте, как они отнесутся к этим сценам.
На совещании выступал Пластов… И вот, представьте, к нему в деревню привезут эту картину с этими сценами молодежи, — убьют!..
К чему я это говорю? Я хочу сказать, что в обсуждении нам чаще нужно вставать на позиции этих крестьян. В этом я вижу народность, вижу в этом партийность…»
С. Герасимов: «Я считаю, главная беда современных молодых художников заключается в том, что они выделяют себя из жизни, уходят в свое художническое подполье и там начинают наподобие раков-отшельников размышлять, где право, где лево, а жизнь развивается по своим законам. Пока герои, которые берут на себя по воле авторов право судить о жизни, не будут принимать фактического участия в жизни общества, они представляют собой эфемерную силу…
Что такое эти ребята? Это старички, пикейные жилеты на новый лад известного сочинения Ильфа и Петрова, рассуждающие, голова Бриан или не голова… Работать надо! Пафос труда берется за скобки, когда некий домысленный человек, отец Ани, по-видимому, демагог и двоедушный тип, говорит, что он работает, а герой отвечает: «Я тоже работаю, но не хвастаю этим от имени народа». Но все это еще надо доказать, мы этого не видим. И то, о чем говорил Ростоцкий, главный критерий: кто ты такой, чтобы критиковать? Это простая истина, против которой возразить нечего…
Почему же все-таки у картины много заступников и аз многогрешный в том числе, за что несу всю меру ответственности? По той причине, что я вижу в художниках дарование, вижу способность видеть жизнь не умозрительно, не во внешних формах, а в живых связях и надеюсь и верю, что они используют эту способность на сто процентов. А они изо всех сил эту способность не желают использовать: стесняемся, неудобно. О партии сказать впрямую неудобно. Эта застенчивость в таких делах в нашей советской партийной практике не может принести серьезных художественных результатов… (выделено мной. — Ф. Р.). Я говорю это потому, что мне хочется еще раз внедрить в сознание моих дорогих друзей Хуциева и Шпаликова главное: позиция художников в современных условиях должна быть не регистраторской, а боевой, активной, вмешивающейся в события до конца и преображающей по воле своей. Бояться сильного слова, сильного действия — это позиция неподходящая, она не соответствует духу времени, духу идей и всей нашей практике…»
Здесь позволю себе короткую ремарку. После подобных слов Герасимова о партии кто-то может заподозрить его в неискренности и даже лизоблюдстве: мол, говорит так, чтобы понравиться власти. Но это ошибочное мнение: великий режиссер был искренен в своих словах. В коммунистической партии, членом которой он был с 1943 года, он продолжал видеть, несмотря на все ее ошибки и заблуждения, ведущую силу советского общества (за эту позицию либералы называли Герасимова, с легкой руки Эйзенштейна, «красносотенцем»). Об этом можно было судить хотя бы по его киноработам: несмотря на то что его последние фильмы заметно отличались по своему пафосу от более ранних работ, однако суть их осталась неизменной: это было глубоко партийное и в то же время народное кино. Другое дело, что к началу 60-х годов в советском обществе складывалась такая ситуация, что говорить высокие слова о партии, хвалиться своей принадлежностью к ней стало в партийной среде и в самом деле неудобно. Все это отныне выдавалось за пережитки культа личности. И хотя руководство партии по-прежнему исповедовало и пропагандировало в своих речах пафос партийного строительства, миллионы простых партийцев, а также еще большее число беспартийных людей от этого пафоса старались всячески дистанцироваться.
В кинематографе выразителями этого течения одними из первых стали именно Хуциев и Шпаликов (оба, кстати, люди беспартийные). Герасимов это чутко уловил и отметил в своей речи, однако верил ли он в то, что убедил своих оппонентов, сказать трудно. Он был умный человек и наверняка прекрасно отдавал себе отчет, что дело не столько в Хуциеве и Шпаликове, сколько в общей атмосфере, которая тогда складывалась в обществе. Однако Герасимов хотя бы боролся с возникшей ситуацией, чего нельзя было сказать о других его коллегах по кинематографу, которые либо безропотно сложили оружие, либо пополнили стремительно набирающую силу армию критиканов (не путать с критиками).
Но вернемся к совещанию на киностудии имени Горького, к выступлению С. Герасимова. В продолжение своей речи мэтр заявил следующее:
«Я должен сказать со всей решительностью, что неподходящую услугу все эти годы, особенно в последние два года, оказывает на формирование новых художников (не обязательно молодых, но и зрелых) критика. Критика перепутала вокруг этого вопроса черт знает что. Она еще сейчас в результате того, что не хватало времени ею заняться, ушла из-под партийного прицела. Мы тоже несем на себе ответственность как руководители, но надо сказать, что помощи от внешней критики ждать не приходится, потому что запутают любой вопрос, перепутают, где право, где лево. Много найдется критических барышень, которым все ясно, которым ясно, что надо делать так, чтобы все было как за границей, они сориентируются на «нужные» ориентиры, только не на свои (выделено мной. — Ф. Р.).
Правда это или неправда? Правда. И эта правда нами еще не оговорена. И, конечно, это играет свою роль. Поднажмешь сколько-нибудь строго, поднимется такой писк: вот Герасимов узурпирует молодых художников, скручивает им ручки и ножки, проявляет свою ретроградную власть. А в таких случаях, как говорил Н. С. Хрущев, надо доводить дело до конца. И это урок всем, убежденным в своей принципиальной позиции: доводи дело до конца, не виляй в этом вопросе».
Т. Лиознова (режиссер): «Я вспоминаю первый просмотр материала. Я лично плакала, когда смотрела первомайскую демонстрацию, и думала, какое счастье так снимать!.. И я помню, что сказал Герасимов: „Очень интересно получается, но нужно все время думать, куда это нацеливает…“ Если сложить все, что говорилось по этому поводу в хоре не тех, кто хвалил, а тех, кто сомневался, станет ясно, что не так вам нужно было выступать, если бы вы поняли это и если бы вы следили за взволнованными выступлениями ваших товарищей, а они были… Ты не отрекайся… Почему ты это забываешь? Сергей Аполлинариевич говорил (это слышал Марлен, это слышал Шпаликов) нежно, мягко. Никогда он так с нами не говорит, нам он дает по зубам! Почему вы стесняетесь сказать прямо о своей любви к Советской власти? (выделено мной. — Ф. Р.). Ради этого фильм сделан…»
Л. Кулиджанов (режиссер): «Критика партийная… предполагает, что эта картина будет доделана в правильном направлении, в партийном направлении, чтобы сделаться тем, о чем говорил т. Хуциев, — объективной силой, практическим оружием в нашей борьбе.
Я бы хотел предостеречь в равной степени как от паллиативов, от полумер, так и от паники, от панического, нервозного отношения к предстоящей серьезной работе… Какие-то штопки, какие-то латки — это путь неправильный, опасный, который не исправит картину, а только ухудшит».
Я. Сегель (режиссер): «Я не считаю возможным отрекаться от того, что мне эта картина нравилась, что я ее очень любил, и думаю, что если я ее сейчас посмотрю, то смогу сказать, что сохранил симпатии к ее талантливости…
Н. С. Хрущев, справедливо критикуя картину, преподал нам урок, и мне кажется, было бы неуважительно по отношению к главе партии и правительства не прислушаться к этому уроку. А урок говорит о том, что Никита Сергеевич — он выражает не только свое мнение, а и мнение партийного руководства — склонен рассматривать это как материал. Это сказал Никита Сергеевич Хрущев, и давайте же уважать мнение Первого секретаря ЦК партии. Тем самым нам предложено подумать, как этот материал — а случайно так названо быть не могло — должен стать хорошей, полезной картиной. И это не двусмысленно сказано, а сказано ясно — давайте так рассматривать. Люди, которые делали эту картину, названы талантливыми. Отдельные сцены вызывают волнение позитивного порядка. Насчет картины Никита Сергеевич совершенно ясно и точно сказал, что его не устраивает… Если мы хотим картину доделать, то должны доверять людям, которые будут вести ее к финишу».
М. Барабанова (актриса, член комиссии партконтроля студии): «Я не хотела выступать, но после выступления Яши Сегеля не могу молчать — это выступление произвело на меня такое же впечатление, как и выступление т. Чухрая на открытом партийном собрании. Оно меня оскорбило… Не надо говорить о том, что мы извращаем сейчас высказывания т. Хрущева, мы их очень внимательно читали. Если бы т. Хрущев не собрал это совещание, картина была бы выпущена…
Меня волнует только один вопрос. Меня сегодня т. Хуциев не убедил ни в чем, не убедил и в самом главном: мне кажется, он остается при этой концепции… Тов. Хрущев — власть, он сказал нет, и мы все говорим нет. Это же так.
Яша Сегель говорит, что картина очаровательная, она его покорила…»
Я. Сегель: «Не передергивай!..»
М. Барабанова: «Я думаю, что Хуциеву, который сделал „Весну на Заречной улице“, чужда такая концепция. Не могу понять, откуда родилась у него эта тема. Я его воспринимала как человека, стоящего на оптимистических позициях (выделено мной. — Ф. Р.)…
Вы говорите: вопрос отцов и детей. Но ведь Хуциев не развил тему матери и главного героя, но развил совершенно другую концепцию. Зачем же мы будем это заглатывать! Давайте серьезно поговорим, тогда мы сможем помочь. А вы начинаете — очаровательная… Ведь только потому, что товарищ Хрущев сказал, мы так серьезно к этому относимся… Я понимаю Герасимова, у него ужасное состояние сейчас… Он видел — талантливая вещь, а первая часть очень хорошая, никто не отрицает. Но с каким неуважением вы отнеслись к партийному голосу на студии. Вот комиссия партконтроля — пусть мы бездарны, но мы ведь люди, которые умеют думать, чувствовать…
Мы говорили об односерийном сценарии, о каких-то недостатках, причем говорили с добрым намерением, потому что хотели помочь. И я уверяю вас, к Хуциеву мы относимся еще более нежно, чем Яша Сегель. Появилась вторая часть сценария. И вот представьте: я, простой зритель, прихожу в кино, смотрю три часа картину, и потом основной герой говорит: как жить? Зачем же я смотрела эту кинокартину: он не знает, как жить, после того как Хуциев своим сюжетом должен двигать героя, должен довести его до ясного ответа (выделено мной. — Ф. Р.)… Я думаю: профессиональности не хватает Хуциеву, почему он так запутался».
М. Хуциев: «Я мог ошибиться, но я не мог сделать что-то во вред моей родине, моей партии, народу. Я очень плотно связан с историей своей страны, и не только своей работой, но и страницами своей биографии. А вам, Мария Павловна, я скажу следующее. Я сегодня первый раз услышал, узнал о такой вашей позиции в отношении картины. Но много раз вы мне пожимали руку в коридоре и говорили: „Как это прекрасно“. Много раз вы мне говорили это при свидетелях. Нельзя так поступать. Никогда не забывайте, что наступит такой момент, когда нужно будет человеку посмотреть прямо в глаза. Я вам могу смотреть прямо в глаза, а если вы после сегодняшнего выступления сможете смотреть мне прямо в глаза, я буду завидовать вашей выдержке. В числе тех людей, кто мне пел дифирамбы, как теперь говорят (кстати, это меня всегда очень смущало, я всегда говорил, да что вы, вот это у меня не вышло, вот это не получилось), были и вы. Меня потрясло ваше выступление, потому что можно простить людям — недоверие, ошибку, даже жестокость, но это… Простите. Не нужно приписывать людям того, чего они не делают.
Вы задумайтесь на секунду над тем, что вы говорите, какие обвинения вы нам предъявляете: обманули партию, обманули Хрущева… Как вы можете так говорить?! Что вами руководит? После того как мы были вызваны в ЦК, вы подошли ко мне и сказали: Марлен, или Марленчик, как вы всегда ко мне обращались, что тебе говорил Леонид Федорович (Ильичев. — Ф. Р.)? Я ответил: «Он сказал: хотите ли вы доделывать картину или считаете ее законченной?» Мы были с Сергеем Аполлинариевичем и ответили: «Нет, не считаем законченной, будем доделывать»…»
С. Рубинштейн (редактор): «Я была в МК, когда т. Поликарпов говорил: „Сейчас другие времена, сейчас людям, которым дороги интересы народа, даже если они ошибаются, но если мы им верим, мы предоставляем право исправлять ошибки, говорить о своих ошибках“. Когда-то в сталинские времена, мрачные времена, за картину, неправильно сделанную, жестоко наказывали и даже сажали. Сейчас Н. С. Хрущев обрушивает справедливый гнев, говорит очень резко, но он смотрит человеку в глаза с желанием помочь ему исправить свои ошибки. Как же Мария Павловна могла так подумать? Можно было еще представить себе, что вы, Мария Павловна, плохо думаете о картине. Но я не понимаю, как вы могли плохо подумать об этих людях — Хуциеве и Шпаликове. А вы их знаете. Они получили серьезный урок, они должны подумать, как им исправить свои ошибки. И мы с вами — мы тоже несем свою вину. И мы говорим это не из фарисейских соображений.
Партия нас учит не только критиковать, но и помогать человеку в преодолении ошибок. Действительно, совершены большие ошибки, и мы все виноваты в том, что мало критиковали Хуциева, чаще хвалили, мало критиковали с трибуны, больше где-то в коридоре, в комнате. Н. С. Хрущев критиковал его с позиции доверия. Он сказал прямо, резко, сурово, но сказал отечески и этим оказал помощь. На встрече в Кремле была совершенно не та атмосфера, которая здесь вдруг проявилась. Которая очень огорчительна. Мне кажется, все можно сделать, если человеку верят, а если не верят… Я верю Хуциеву и Шпаликову…»
С. Ростоцкий: «Я знаю, что М. Хуциев не скажет, а потому хочу вам сказать, что во время второго заседания, когда было уже ясно, что он не успеет выступить, он отправил Н. С. Хрущеву записку. И в этой записке было сказано: я очень много понял, Никита Сергеевич, и сделаю все, чтобы эта картина была помощником партии и служила народу. Я думаю, что это обязательство он взял перед очень высоким человеком. Другое дело, что мера ответственности его перед таким человеком очень велика».
В. Марон (организатор кинопроизводства): «Меня до глубины души взволновала эта записка. Я дважды читал доклад Хрущева, и у меня просто спазма сжимала горло. А представьте себе: сидят творцы картины, слышат все это… Надо собраться с мыслями, чтобы написать такую записку…»
М. Барабанова: «Она была написана до выступления Хрущева».
В. Марон: «Все равно нет никаких оснований им не доверять. И надо сделать так, чтобы не было никаких сюсюканий сценарного отдела, чтобы дана была возможность им спокойно работать».
Казалось бы, после столь откровенного и бурного обсуждения фильма его создатели сделают соответствующие выводы и внесут в фильм такие изменения, которые снимут пусть не все, но большинство претензий. Увы, но этого не произошло. Хуциев хотя и внес какие-то правки в картину, однако сути ее не изменил. Вот как об этом вспоминает Ю. Закревский:
«Упрямый и упорный Марлен и не думал слушать Хрущева. Были израсходованы все полагающиеся ассигнования, съемочной группе перестали платить зарплату, но от Хуциева никто не ушел. Марлен попросил у меня в долг 500 рублей. Прихожу к нему в павильон во время съемок как раз того эпизода, который вызвал особенно резкую критику Хрущева. Смотрю и слушаю — диалог слово в слово тот же, что был в сценарии и в раскритикованном варианте. В перерыве спрашиваю:
— Марлен, зачем же ты это переснимаешь?
— Да просто хочу кое-что подправить. Да и парня, снимавшегося в этом эпизоде, взяли в армию — пришлось заменить…»
Естественно, подобные исправления не могли удовлетворить руководство студии. И вот уже 6 и 13 мая 1963 года эти люди опять собрались для того, чтобы обсудить картину. Приведу отрывки из некоторых выступлений.
С. Ростоцкий: «Если представить себе на минуту, что Хуциев сказал бы, я показываю эту молодежь как нетипичную, я ее критикую, я ею недоволен, считаю, что она должна быть не такой, и поэтому показываю ее. Это одна постановка вопроса».
М. Хуциев: «Каждое свое выступление я говорил только об этом…»
С. Ростоцкий: «Одно дело, Марлен, говорить, другое дело чувствовать. Значит, то, что ты думаешь об этой молодежи, не производит одинакового на всех впечатления. Одни могут подумать, как ты, другие иначе. Есть ли сейчас… представление, что это передовая молодежь Советского Союза? Нет, потому что нет ни одной энергичной сцены, которая бы вызвала симпатии к герою.
Надо снимать главное обвинение, что ходят по фильму шалопаи, болтают… Это обвинение появляется потому, что герои на протяжении всей картины, за исключением вечеринки, не высказывают своего отношения к людям, которые ходят по ресторанам и занимаются всем этим довольно ярко… У этого парня (герой В. Попова по имени Сергей Журавлев. — Ф. Р.), на моих глазах проходящего по картине, нет никакого повода задавать вопрос: как жить? Я не вижу трагедий в его жизни. Он полюбил какую-то девицу, сам не понимает за что, у него с ней не получается, и он задает вопрос отцу: как жить? Ему нечего спрашивать: как жить? (выделено мной. — Ф. Р.).
Вот хороший парень, абсолютно точно сыгранный, но и в нем есть элемент этих ребят. Он рушит старые дома (герой С. Любшина Слава Костиков. — Ф. Р.). Это прием, показывающий разрушение старого. Вы это придумали? Не вы. Но вы сделали интересно. Он бьет по старым домам, рушит старые дома, и все-таки он в сетях старого, что мешает ему, молодому, жить. Прекрасный замысел. Но чего-то не хватает. Если бы он шваркнул этой хреновиной, шваркнул так, чтоб развалился не один дом, а два, если бы он сделал это с таким настроением! Но получается: работа — отдельно, а он и его жизнь — отдельно. Есть огромная разница между отношением к труду в Советском Союзе и других странах…
Этого, к сожалению, в картине нет. У нас люди не работают так: восемь часов отработал и потом пошел жить. У всех нас жизнь идет здесь, на работе, и продолжается, когда мы возвращаемся домой. Искусственно отделить это невозможно: вот работа, а вот моральные проблемы. Другое дело, когда человек становится иллюстрацией… Я абсолютно уверен, что человек, так размышляющий, когда он сидит за этим краном, может это делать автоматически, а может делать с таким настроением… В первом случае я вижу, что работа для него — занятие неинтересное, а во втором — интересное. Но этого нет».
М. Хуциев: «Я же не виноват: люди работают, у них спокойные лица, что же тут делать?»
С. Ростоцкий: «Я стараюсь тебя понять. Почему я тебе это говорю? Потому что говорил, говорю и еще буду говорить, что ты один из редких людей, сумевших показать в кино процесс труда поэтически, так, что он зажег меня, вдохновил (речь идет о фильме „Весна на Заречной улице“, которую Хуциев снял вместе с Ф. Миронером. — Ф. Р.)… И я не устаю повторять: я хочу, чтобы на тебя переходила сила людей, идущих по экрану. А на тебя сейчас переходит их слабость…»
Т. Лиознова: «Мне легче выступать, потому что я принадлежу к разряду людей, которые последовательно, с момента, когда началось создание этой картины, были не удовлетворены ее сутью, ее концепцией и направленностью… Выступление Ростоцкого мне очень понравилось. Думаю, если бы такой разговор был с самого начала, таких бед не было бы. Волнение Ростоцкого мне в тысячу раз дороже твоего. Соберись. Будь до конца мужественным. Ростоцкий испытывает то же волнение, что и вся студия. Мне это дорого, я вижу в этом выражение и залог двухлетнего труда студии. И не надо обижаться… Я не буду говорить слов, каких ты наслышан, что эту картину делают талантливые люди. Ты много раз это слышал, и, вероятно, это в чем-то помешало. Ведь долгое время считалось просто неудобным выступать против этой картины, не принимать ее, потому что в другом лагере оказались умные люди, с которыми я тоже хочу быть рядом… Но вот вас поправили, и оказалось, не так уж мы были не правы…
Да, мы верим в твою искренность, почему же нам не верить: один хлеб по карточкам ели во время войны, я знаю, в каких условиях ты живешь, знаю, за удобствами не гоняешься… Правильно говорил Ростоцкий, что возникает вопрос: кто эти герои, друзья они тебе, ты за них или против? Поначалу я думала, что ты в меру своих художественных способностей тонко можешь разобраться с этим делом и доказать всю безосновательность такого образа жизни. Ты сейчас сказал Ростоцкому, что такая мысль у тебя была с самого начала. И правда, когда мы смотрели на студии, понятным казалось, как ты повел дело. Но я скажу, как и Стасик, — я тебе не верю. И скажу почему. Правильно сказал Стасик: ты не любуешься силой… На тебя герои, с которыми ты имел дело, повлияли, ты тогда же запутался и до сих пор не можешь распутаться, разобраться. Почему если ты хотел, не делая дураками, пошляками, показать людей, которые понимают что-то, умеют слушать Баха, но не умеют главного, не умеют созидать?.. Почему тогда снимаются такие люди, как Тарковский, Михалков (имеется в виду Андрей Михалков-Кончаловский. — Ф. Р.)?.. Почему в «Сладкой жизни» режиссер с телеобъективом подглядывал героев, а потом они на него подали в суд, а эти по доброй воле пришли сюда?.. Разберись…»
М. Хуциев: «Перепробовали большое число артистов. И не получалось. Двадцать человек подходили и начинали задавать такое количество вопросов. Я искал людей, которые могут себя вести…»
Здесь режиссер лукавит. Пригласил он этих исполнителей не случайно. Тарковский и Кончаловский были дружны со ВГИКа, где пользовались большим успехом как возмутители спокойствия: они считались инакомыслящими, ниспровергателями авторитетов. И в фильме Хуциева они выступали как выразители именно этой функции — ниспровержения устоявшихся канонов в советском кинематографе. Их появление на экране было своеобразной «фигой в кармане» и давало зрителям из родной киношной среды, хорошо знавшим этих людей, определенный сигнал о том, что фильм снят «своим» человеком. Точно такую же функцию несколько лет спустя будет нести и приглашение в любую из картин Владимира Высоцкого — самого главного инакомыслящего в среде советской творческой интеллигенции.
Но вернемся к стенограмме собрания на киностудии имени Горького.
Т. Лиознова: «Когда Тарковский заламывает руки, он делает это так грандиозно, что нужно расставить очень многое в сторону главного героя, чтобы у него был перевес. Это делается с такой убедительностью, за этим такая тоска, непонимание того, куда же себя нацелить, что нужен какой-то большой перевес… Где-то неверно была расставлена твоя армия».
М. Хуциев: «Я не решал так: хорошее — плохое, черное — белое. Говоря о том, что молодежь хорошая, я не решал это примитивно. Я высказывал определенные мысли. Я делал картину о людях, которые ищут свое гражданское место, о людях, не стоящих на передовой позиции, не нашедших своей активной позиции, но старающихся найти ее…»
М. Донской (режиссер): «За последнее время у нас развелось большое количество склейщиков, у которых все благополучно, все они склеили, они расставили и положительных, и средних, и отрицательных героев, я все вижу с первых кадров, все расставлено по полочкам. А у тебя, как у художника, появилась мысль — дать фильм о раздумье. Но дело в том, что твои раздумья неверны… (выделено мной. — Ф. Р.).
Шагают все-таки шалопаи, несмотря на то что ты отрицаешь, что это шалопаи. Они даже курят шалопайски. Неужели в двадцать два — двадцать три года возможно такое? Это нагнетено. Вы мне объясните, может, я устарел, совсем не знаю этого… Да и не хочу знать, не надо нам этого! Вот в чем наша беда. Подумай сам. Это какой-то неонигилизм. Берешь человека, делаешь его нигилистом, хочешь, сейчас отправь его на завод, от этого он станет хуже. Заставь его волноваться!.. Я хочу, чтобы в картине не было такого спокойного молодого человека, который пришел к девушке… Приходит это утро, черт знает что! А он спокойно, как будто после любви с девушкой можно быть спокойным, он даже спасибо ей не сказал, не только цветочков не принес — не попрощался. Это какой-то нигилизм! Я бы девушке цветы принес, спасибо ей сказал бы, а потом уже до свидания. Что это за манера стала!..
Ты, Марлен, превратил это в двухсерийный фильм, затянул, он стал скучным. Ты думаешь: я покажу все, и делайте выводы, я не хочу никого поучать. Поучать не надо, но учить художник обязан, и ты можешь учить (выделено мной. — Ф. Р.). Почему? Потому что ты честный и талантливый. Что же с тобой случилось? Тебя форма увлекла. Я еще раз посмотрел текст. Он какой-то нечеловеческий, он интеллигентствующий. Твой Шпаликов молодой хороший человек, но речи русской в таком качестве, которое нужно тебе, он не знает…
А что это за унылость? Ты можешь обижаться на меня, но я считаю, что и людей ты подобрал благодаря твоему видению — ты плохо видишь… Ты взял Тарковского, худосочного, — кажется, плюнь на него, и он упадет, — ты и Вознесенского специально подобрал. Ты подобрал даже не фрондирующих молодых людей… Шалопаи ходят…»
Здесь позволю себя не согласиться с признанным мэтром: поэт Андрей Вознесенский был как раз из разряда фрондирующих молодых интеллигентов. Не случайно на той же мартовской встрече в Кремле именно с ним у Хрущева случилась самая яростная перепалка, когда Первый секретарь буквально не давал ему рта открыть: размахивал кулаками и даже хотел выгнать… из Советского Союза за его интервью западным журналистам. И даже поэма «Ленин», которую Вознесенский недавно написал и хотел прочитать с трибуны Хрущеву, не смогла разжалобить главу государства. Он вволю потоптался на поэте, после чего тот ушел с трибуны чуть ли не под дружное улюлюканье зала.
И вновь вернемся к выступлению Марка Донского, который в продолжение речи сказал следующее: «Не один я так говорю. И публично говорят. И уже в международном плане. Вы должны сказать: „Эй, вы, мальчики, жалеющие меня, удалитесь от меня, я сам знаю, что делать! Убирайтесь от меня! Я понял вместе с товарищами, педагогами, председателем объединения и партийной организацией!“ Нет, вы ничего не поняли. Я тебе сказал полтора года назад и недавно сказал, что можно договориться до… Давайте же договариваться. Я даже подумал: „Господи боже мой! Хорошо, что тебя Ильичев вызывал. Раньше не вызывали бы, милый, уже уехал бы!“ А сейчас вызвали и говорят: „Здравствуйте, парень! Делайте, работайте!“ Как хорошо, очень хорошо. И говорят от имени партии. Так давайте же делать со всем сердцем…»
А вот здесь я с мэтром согласен: каких-нибудь пятнадцать лет назад с Хуциевым никто бы и разговаривать не стал — сослали бы в «солнечный Магадан». А здесь Хрущев устроил с ним публичную дискуссию на весь мир и дал время на исправление ошибок. Другое дело, что Хуциев ничего исправлять не хотел, поскольку продолжал считать правым себя, а не руководство. При этом огромную поддержку ему оказывала интеллигентская среда, где его сторонников было огромное количество. Эти люди, конечно, официально выражать свою поддержку авторам фильма не могли (те же СМИ находились в руках партийных властей), однако морально Хуциева поддерживали: при любой встрече жали ему руки, говорили ободряющие слова и т. д. Это было время, когда в советском обществе начала складываться та самая либеральная фронда, которая спустя двадцать лет возьмет власть в свои руки. Волею судьбы, Хуциев тоже оказался в этой фронде и, попав в нее, не собирался оттуда без боя уходить. Об этом хорошо сказал в своем выступлении следующий оратор — директор киностудии Г. Бритиков:
«Мне, наверное, труднее остальных выступать, потому что уж очень часто мы разбираемся, очень часто говорим и очень часто не получаем окончательного удовлетворяющего нас результата… Говорят: Хуциев варится в собственном соку. Нет, он варится в каком-то соку, но только не в студийном, потому что все плечи, все подпорки, которые оказывали и оказывают Хуциеву поддержку со стороны студии, он отвергает и, вероятно, пользуется какими-то другими соками… (выделено мной. — Ф. Р.). Я не знаю, как эти сорок три килограмма упорства и упрямства приспособят собственный вес: уж применялось все — применялись коллективные предложения — отвергались, применялись просьбы — отвергались, применялись уговоры — отвергались…
И Сергей Аполлинариевич продолжает смягчать положение, сам отлично понимая и оценивая его».
С. Герасимов: «В чем я смягчаю? Что нужно делать — голову ему оторвать?»
Г. Бритиков: «Да вы готовы оторвать голову любому, но, вероятно, не Хуциеву. В чем вы смягчаете положение? Вы знаете, что интонацию вещи нужно менять трудовыми поступками героя…»
С. Герасимов: «Так что, я прятал это в карман?»
Г. Бритиков: «Дело в том, что Хуциев слушает не тех, кого ему нужно слушать. Я не знаю, кого он слушает. Что требует критика? Скажем мягко: изменения интонации фильма. Это значит, что наш герой, хотя бы один из трех, должен быть награжден трудом. Но он трудом не награжден… Он стыдится проявлений каких-то активных поступков… Наш герой опять бездейственный. Наградите героя поступками… которые аккредитовали бы его трудом, которые дали бы возможность слушать его реляции, что он серьезно относится к 1937 году, в котором он не участвовал, что он хорошо относится к революции, к солдатам, но он никак не высказал своего отношения к современности. Если этого не будет, то, на мой взгляд, картина не получится…»
С. Докучаев (начальник производства киностудии имени Горького): «О чем будет картина?»
М. Хуциев: «Картина будет о том, о чем и была. Мы должны сделать, чтобы заглавие „Застава Ильича“ было до конца понятно. Картина о том, как у молодого человека складывается гражданское сознание и необходимость быть всегда активным гражданином своей родины…»
С. Герасимов: «Я внимательно слушал, что говорил Марлен Мартынович, правда, выходил, потому что сердце слегка схватило, но я не могу представить себе, чтобы автор при всем состоянии своего здоровья мог бы от подобной работы отойти. Это не тот автор — Марлен Хуциев…»
Герасимов оказался прав: Хуциев свое детище не бросил и, несмотря на все старания «верхов», так и не внес в картину требуемых от него поправок. Он просто волынил, тянул время. А когда его соавтор Геннадий Шпаликов написал для Георгия Данелии сценарий фильма «Я шагаю по Москве», который можно было смело назвать антиподом «Заставы Ильича», Хуциев на него обиделся и назвал конъюнктурщиком.
Конфликт вокруг «Заставы…» рассосался сам собой. В октябре 1964 года Хрущева отправили на пенсию, и фильм Хуциева, уже под другим названием — «Мне двадцать лет», — вышел-таки в прокат. Сборы у него были скромные: всего 8 миллионов 800 тысяч зрителей (правда, и прокат был не широкий). Зато картина была премирована за рубежом (в Венеции-65), что естественно: там это стало доброй традицией — премировать опальные в Советском Союзе произведения.
Уже в наши дни кинорежиссер и сценарист Ю. Закревский выразил следующее мнение о фильме М. Хуциева:
«Прошли десятилетия… „Весна на Заречной улице“ и „Я шагаю по Москве“ до сих пор хорошо воспринимаются зрителями (их повторы по ТВ подтверждают это), чего не скажешь о нашумевшей когда-то „Заставе Ильича“. Ведь и зрители вольны принимать или не принимать тот или иной фильм и его героев… А может быть, прав был Н. С. Хрущев со своими соратниками, желавшими видеть в новом поколении иную, более оптимистическую, обнадеживающую Правду?..»
Несмотря на скромный успех «Заставы» у широкого зрителя, в годы горбачевской перестройки именно этот фильм был поднят на щит либеральной критикой. О нем было написано столько восторженных статей в СМИ, что ими можно было обклеить стены не одного многоэтажного дома. Столь восторженные отзывы либералов были понятны: именно в фильме Хуциева впервые в советском кинематографе речь велась о молодом, послевоенном поколении советских людей, кто почти не разделял пафоса своих родителей или относился к нему индифферентно. Именно это поколение в итоге приведет к власти Горбачева и угробит великую страну.
Фильм Марлена Хуциева «Мне 20 лет»
с первоначальным названием «Застава Ильича»
был снят в 1962 году,
запрещен, и в перемонтированном варианте вышел в 1964 году.
Главный герой фильма Сергей возвращается после службы в армии
и приступает к обычной жизни.
Устраивается на работу, учится в институте,
влюбляется, встречается с друзьями детства.
При этом ощущается внутренняя неудовлетворенность Сергея
обычной устроенной жизнью,
его стремление к чему-то большему.
Перед ним и его друзьями встают вопросы:
как жить дальше, какая в жизни цель?
Потрясением для Сергея становятся слова
отца его любимой девушки Ани
о том, что в мире каждый сам за себя.
Так вот, учтите, надеяться вы можете только на себя,
никто вам не поможет, ни один человек.
Людям, в общем, наплевать друг на друга,
как ни печально в этом признаться.
Протест героя проявляется на одной из вечеринок элитной молодежи,
когда он заявляет, что у человека должно быть что-то серьезное.
Я серьезно отношусь к революции,
к песне «Интернационал»,
к 37-му году,
к войне, к солдатам,
к тому, что почти у всех у нас нет отцов.
По словам Хуциева, речь не могла идти
о политической пропаганде в пользу коммунистов.
Наоборот, режиссер признает, что у того времени
было много ошибок, заблуждений,
трагических и постыдных страниц.
Но будь то время стопроцентно подлым,
оно не родило бы столько шедевров во всех жанрах искусства.
Хуциев глубоко убежден:
надо было говорить о Сталине, о его преступлениях,
но не в тот момент.
В тот момент было главным становление человека,
который мог переосмыслить для себя,
для своей будущей жизни этот страшный опыт.
Сергей после ухода с вечеринки в Ани
пытается разобраться в том, что в последнее время с ним происходит.
Внутренний монолог героя
переходит в воображаемый диалог с отцом.
И это обращение к памяти о прошлом
как бы окончательно укрепляет его в выборе и дает надежду на будущее.
С вопросом «как быть» герой обращается к погибшему отцу.
Я хотел бы тогда идти рядом.
Не надо.
— А что надо?
— Жить.
Да.
А как?
Как?
— Сколько тебе лет?
— 23.
А мне 21.
Именно эта сцена вызвала особое неудовольствие Хрущева.
По его мнению, отец бросил сына в непростой момент.
Но ведь поколение погибшего отца победило такую страшную войну,
и этим сделало всё для своих потомков.
Оно не знало, как строить жизнь в мирное время,
поэтому всё, чем оно может помочь своим потомкам, —
ходить дозорами, даже будучи мертвыми, по Москве
и сторожить покой своих детей.
Хуциев отснял эту сцену заново, как и многие другие.
Поправки Хрущева касались многих мелких вещей,
и Фурцева разрешила заново отснять картину,
уже двухсерийную, на основе «Заставы Ильича».
Режиссер был
Застава Ильича
Мне двадцать лет
К двадцатилетию начала войны…
Режиссером фильма «Застава Ильича» стал Марлен Хуциев, к тому моменту уже автор двух нашумевших картин – романтической «Весны на Заречной улице» с Николаем Рыбниковым в главной роли и «Двух Федоров» — фильме о родстве душ, искареженных войной. Первая большая роль Василия Шукшина.
Работу над «Заставой Ильича» Марлен Хуциев начал в 1959-м году с Феликсом Миронером – сорежиссером и автором сценария «Весны на Заречной улице». Предполагалось, что работа будет закончена к 1961-му, то есть к двадцатилетию начала войны.

Во ВГИКе Марлен Хуциев учился в мастерской знаменитого режиссера и талантливого педагога Игоря Савченко.

Практику проходил у великого автора «Окраины» Бориса Барнета.
Марлен Хуциев и Геннадий Шпаликов во время съемок фильма
Живые диалоги и неподдельные чувства
В процессе написания сценария Миронера сменил ровесник героев ленты начинающий драматург, поэт, звезда сценарного факультета ВГИКа – Геннадий Шпаликов.
Шпаликов привнес в сценарий живые диалоги, неподдельные чувства молодых людей того времени. Уйдя от жесткой повествовательной структуры, в фильме появилось лирическое настроение, поэтический взгляд на мир, удивительную атмосферу эпохи.
Особое переживание героями времени и пространства ставило сложную задачу перед режиссером и оператором фильма.

Ах улицы, единственный приют,
Не для бездомных —
Для живущих в городе.
Мне улицы покоя не дают,
Они мои товарищи и вороги.
Мне кажется — не я по ним иду,
А подчиняюсь, двигаю ногами,
А улицы ведут меня, ведут,
По заданной единожды программе.
Программе переулков дорогих,
Намерений веселых и благих.
Геннадий Шпаликов
Рабочий момент съемок. Слева — член съемочной группы, актеры В.Попов и Н.Губенко. В центре — оператор М.Пилихина за камерой. Справа — режиссер М.Хуциев, члены съемочной группы.
Удивительная камера
Оператором «Заставы Ильича» стала Маргарита Пилихина. В их с Хуциевым работе удивляло буквально все – свободные, почти парящие движения камеры, долгие кадры, съемка с рук. Камера то неотступно следовала за героями, протискиваясь в переполненном автобусе к выходу, пробираясь сквозь многолюдную толпу, то смущенно останавливалась, не давая зрителям нарушить интимность момента первой встречи с друзьями, утренних прогулок с любимой девушкой.

Вот оператор Маргарита Михайловна Пилихина. Я поначалу ужаснулся: как это — женщина-оператор? Но не было задачи, которую она бы не выполнила. Шла в сцене демонстрации с ручной камерой, потом взлетала на тележку. Эта игра светотени, обертоны изображения — все дыхание кино
Марлен Хуциев
Застава Ильича
Название «Застава Ильича» достаточно анахронично для 1961-ого года, когда проходили съемки. И даже для 1959-ого, когда фильм только задумывался. Площадь Застава Ильича существовала на советских картах с 1923 по 1955 год. В 1955-м она прекратила свое самостоятельное существование и была включена в состав площади Ильича. Сегодня этому место возвращено историческое название – площадь Рогожская Застава.
Бойцы Московской противовоздушной обороны несут аэростат на ул. Застава Ильича. Февраль 1942 года.
Источник: hc.east-site.ru
Застава Ильича на карте Москвы, 1952.
Источник: retromap.ru
Кадр из фильма. Слева сидит Валентин Попов, в центре сидит Николай Губенко, справа стоит Станислав Любшин
Драма взросления
В центре сюжета драма взросления трех друзей – Сергея, только что вернувшегося из армии, балагура и сердцееда Николая и Славы, недавно ставшего отцом. Перед зрителем разворачивается будничная жизнь молодых людей в шестьдесят первом году, которые мучительно ищут свой индивидуальный путь в жизни.
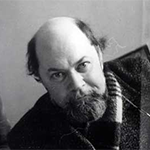
В прозе «шестидесятников» аналогичные вариации на тему Ремарка были весьма модны; Хуциев отдал дань поветрию: главное – три товарища, а какие они – это уже детали
Лев Аннинский
На главные роли Марлен Хуциев выбрал никому еще не известных молодых актеров
Исполнителем роли Сергея Журавлева стал Валентин Попов. «Застава Ильича» оказалась самой известной в его актерской судьбе. Позднее он связал свою жизнь с режиссурой.
«Врастающего в быт» молодого отца семейства Славу Костикова сыграл Станислав Любшин. Его актерская биография изобилует интересными работами у самых разнообразных режиссеров – от Данелии до Михалкова.
Роль Коли Фокина для Николая Губенко стала дебютом в кино. В дальнейшем его ждала яркая актерская судьба в театре на Таганке и кино. Также он стал автором таких картин как «Подранки», «Пришел солдат с фронта» и др.
Марианне Вертинской – старшей дочери неподражаемого эстрадного исполнителя Александра Вертинского досталась роль Ани.
Валентин Попов
Источник: afisha.ru
Станислав Любшин
Кадр из фильма
Николай Губенко
Кадр из фильма
Марианна Вертинская
Материалы музея
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Эскизы интерьеров
Ирина Захарова, Михаил Ромадин.
Выставка молодых художников в Пушкинском
Эскизы Ирины Захаровой.
Эскизы Ирины Захаровой.
Вечер поэтов в Политехническом
В знаменитой сцене литературного вечера Марлен Хуциев искусно сочетал игровой кинематограф с документальным. Например, помещая персонажей своей картины в реальное пространство Политехнического музея, где шло настоящее выступление поэтов.
Старшее поколение в лице Михаила Светлова, Бориса Слуцкого, Булата Окуджавы на равных сосуществовала на сцене с молодежью — Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной. Однако единение поколений присутствовало и в зале, где можно видеть абсолютно разновозрастную публику.
После выступления поэтов следовали вопросы зрителей. Это не менее, а может быть даже более важная часть эпизода. Звучание голоса обычных людей в огромном зале Политехнического завораживало так же как и стихи популярных поэтов. Казалось в этом и было главное завоевание оттепели.
Вечер поэтов в Политехническом
Вечер поэтов в Политехническом
Вечер поэтов в Политехническом
Вечер поэтов в Политехническом
Вечер поэтов в Политехническом
Вечеринка «золотой молодежи»
Именно так окрестили кинокритики эпизод празднования дня рождения героини Марианны Вертинской.
Знаменитая вечеринка, на которую помимо утвержденных актеров были приглашены настоящие юные вгиковцы, уже успевшие заявить о себе. Сценаристы, актеры, режиссеры: Павел Финн, Наталья Рязанцева, Ольга Гобзева, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский…Герой последнего, кстати, получает звонкую пощечину за циничное отношение к памяти о войне, а в реальной жизни в это же самое время Тарковский снимает один из самых пронзительных военных фильмов оттепели – «Иваново детство».
Вечеринка «золотой молодежи»
Вечеринка «золотой молодежи»
Кадр из фильма: Слева Андрей Тарковский, справа Валентин Попов, в центре Ольга Гобзева
Кадр из фильма. Слева Андрей Тарковский, справа Андрей Кончаловский с картошкой à la russe из Националя
Кадр из фильма: Слева Андрей Тарковский, справа Валентин Попов, в центре Ольга Гобзева
Вечеринка «золотой молодежи»
Вечеринка «золотой молодежи»
Вечеринка «золотой молодежи»
Жесткая критика
Фильм, который планировался к выходу в 1962-м году, был жестоко раскритикован на самом высоком, практически государственном уровне.

…Даже наиболее положительные из персонажей фильма — трое рабочих парней — не являются олицетворением нашей замечательной молодежи. Они показаны так, что не знают, как им жить и к чему стремиться.
Серьезные принципиальные возражения вызывает эпизод встречи героя с тенью своего отца, погибшего на войне. На вопрос сына о том, как жить, тень отца в свою очередь спрашивает сына — а сколько тебе лет? И когда сын отвечает, что ему двадцать три года, отец сообщает — а мне двадцать один… и исчезает. И вы хотите, чтобы мы поверили в правдивость такого эпизода? Никто не поверит!
Можно ли представить себе, чтобы отец не ответил на вопрос сына и не помог ему советом, как найти правильный путь в жизни?»
Из речи Н. С. Хрущева на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. 8 марта 1963 г.
Существует версия, что Хрущев вовсе не смотрел «Заставу Ильича», а ненавистью к картине проникся после язвительного пересказа кого-то из коллег Хуциева по режиссерскому цеху. В любом случае, в результате столь ожесточенных нападок на фильм, от режиссера стали требовать внести в картину значительные изменения.
Плакат фильма
Я шагаю по Москве
Когда у фильма Хуциева начались проблемы, и его выпуск откладывался на неопределенный срок, Геннадий Шпаликов начал работу над комедией для Георгия Данелии. В этот сценарий он перенес многие идеи и находки из «Заставы Ильича». Картина вышла на несколько лет раньше «Заставы» и имела оглушительный успех.

(…) сценарий фильма «Я шагаю по Москве» мы со Шпаликовым бесконечно переделывали не из-за меня — из-за Никиты Сергеевича Хрущева. На встрече с интеллигенцией Никита Сергеевич сказал, что фильм «Застава Ильича» (режиссер Хуциев, сценарий Шпаликова) идеологически вредный: «Три парня и девушка шляются по городу и ничего не делают». И в нашем сценарии три парня и девушка. И тоже шляются. И тоже Шпаликов. И поэтому худсовет объединения сценарий не принимал.
Но в Госкино, после просмотра, нам опять сказали:
— Непонятно, о чем фильм.
— Это комедия, — сказали мы.
Почему-то считается, что комедия может быть ни о чем.
— А почему не смешно?
— Потому что это лирическая комедия.
— Тогда напишите, что лирическая.
Мы написали. Так возник новый жанр — лирическая комедия
Георгий Данелия, режиссер, сценарист
Фильм резали по живому…
Режиссеру пришлось резать почти готовую картину по живому: сокращать одни сцены, полностью убирать другие, переозвучивать третьи. Скомпрометированное название «Застава Ильича» было решено поменять на «Мне двадцать лет». Не обошлось и без пересъемок. Ключевая для фильма практически гамлетовская сцена встречи Сергея с погибшем на войне отцом была переснята с другим текстом и новым актером в роли отца.
Видео: сцена разговора Сергея с отцом (Евгений Майоров)
Застава Ильича
Видео: сцена разговора Сергея с отцом (Лев Прыгунов)
Мне двадцать лет

…вырезан был звенящий от неосознанной, но несомненной нравственной несовместимости диалог Сергея с отцом возлюбленной <…> Да, практически исчез из картины такой восторженный и взволнованный памятник этим шестидесятым, как вечер поэтов в Политехническом <…> Да, выпала из фильма – совсем уж невесть почему – удивительная по пластике и целомудрию сцена танца во тьме с колеблющимися свечами в руках. Да, мы увидели куда более полный и куда более жесткий эпизод вечеринки <…> Да, и сцена с погибшим отцом звучит сегодня в куда более трагедийном и возвышенном музыкальном ключе…
Мирон Черненко, 1988 год

Поправок в фильме было много. Я уже устал что-то доказывать, переснимать. Ведь я не делал заплатки, а переснимал заново целые сцены.. Прихожу как-то к новому министру Романову. Он мне говорит, что надо вырезать еще сцену, где танцуют со свечами в руках. Почему? Пожарные не разрешают. Свечи, оказывается, с нашим бытом не совместимы.
Марлен Хуциев
Кадр из фильма.
Восстановленная версия
Картину «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева зрители увидели в январе 1965 года, и только 29 января 1988 года в Доме кино состоялась настоящая премьера восстановленной версии фильма под оригинальным названием – «Застава Ильича».

Перемонтированный, урезанный вариант «Заставы Ильича» не хуже оригинала, он меньше его. Фильмам Хуциева не вредят ни сокращения, ни разрастание в разумных пределах. Но попробуйте выделить самые яркие эпизоды – вне контекста они блекнут, теряют прежнюю силу, смысл. Нарушается строгое правило, по которому каждый эпизод должен был быть цельным, практически самодостаточным.
Ирина Изволова – киновед, режиссер док.кино
Памятник Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому и Василию Шукшину у входа во ВГИК.
Источник: g-victor.livejournal.com
На все времена
Сегодня невозможно представить историю российского кино без «Заставы Ильича», невозможно говорить о «шестидесятниках» без просмотра этой картины, впитавшей мысли, чувства, сомнения поколения «оттепели». Поколения, пытавшегося повзрослеть.
Только в конце 80-х «Заставу Ильича» показали в первозданном виде. А до этого вносили поправки по указке Хрущева, потом опять кромсали, как только его сместили и надо было срочно убирать стоящего на Мавзолее Никиту Сергеевича из кадра. История страны прошла через этот многострадальный фильм. А работали над ним весело. Хуциев водил молодежь в шашлычную, подкармливал. Но молодые и сами не терялись. Драматург Павел Финн вспоминает, как Марлен Хуциев посылал их с Геннадием Шпаликовым за едой. А они по дороге заруливали в гостиничную столовку и предавались радостям жизни. Шпаликов говорил: «Зачем Хуциеву еда? Он все равно худой». Вернувшись на съемочную площадку, каялись. Хуциев прощал, и все опять повторялось.
Марлен Хуциев: «Крупный советский кинорежиссер накатал донос на нашу картину»
Хуциев всегда любил придумывать на ходу. О том, как родилась идея «Заставы Ильича», он вспоминает так: «Мы снимали «Весну на Заречной улице» в Запорожье. Случилось одно печальное событие: умер директор «Запорожстали», восстанавливавший завод. У него обнаружили чуть ли не осколок возле сердца. Хоронил директора весь город. А когда мы там снимали, меня поразил сам завод. Я подумал, что следующую картину сниму на металлургическом предприятии. Придумалась история о том, как к директору завода приходит его погибший друг. Еще я хотел делать картину о войне под названием «Поколение» — о молодых ребятах, ушедших на фронт. Но прокатилась волна пацифизма, и на мою заявку на студии Горького ответили: «Нет, о войне не нужно».
Марлен Хуциев долго уговаривал друга и однокурсника, сценариста Феликса Миронера, поработать вместе. Но у того были свои планы. «Мы вместе делали диплом «Градостроители», «Весну на Заречной улице». Феликс — потрясающий мастер диалога. Мы часто ссорились. Главный конфликт произошел в Доме творчества в Болшеве, уже после того, как мы подали заявку на фильм. Рассорились на сцене, где парень увидел девушку в автобусе и пошел за ней. «Это твой замысел, — сказал Феликс. Я не буду дальше работать и снимаю свою фамилию», — вспоминает Марлен Хуциев. В общем, произошла ерундовая ссора, причем в тот момент, когда уже было написано сорок страниц сценария. Надо было срочно искать замену.
«Я тогда был ассистентом на курсе Григория Козинцева во ВГИКе, — рассказывает Марлен Мартынович. — Мне посоветовали пригласить студента Шпаликова. Я прочитал его сценарий «Причал». Мы встретились в Доме кино. Парень странно здоровался, держа руки по швам. Он ведь был суворовцем. Генка стал приносить варианты сценария, что-то я переделывал. Он сочинил сцену на выставке молодых художников. Когда произошла история с Хрущевым, Генка встал в позу, изображал из себя человека, который выше этого, отказался делать поправки. Потом я узнал, что он сочинял с Данелия «Я шагаю по Москве». В самый разгар работы Генка мог исчезнуть и так же неожиданно появиться. Спрашиваю: «Что с тобой? Куда ты делся?». Он рассказывал, как его поместили в бокс и он не мог оттуда выйти. Я говорю: «У тебя же подкрашенные волосы». И тут он сознался, что ездил в Одессу пробоваться у Пети Тодоровского в фильме «Верность».
Теперь Хуциев сожалеет о том, что не оставил имя Феликса Миронера в титрах. А зрители и не подозревают, что он причастен к «Заставе Ильича». Именно Миронер когда-то рассказал Хуциеву о том, что есть такой человек — Булат Окуджава, который пишет замечательные песни, и даже напел одну из них: «Девочка плачет, шарик улетел». «У его шурина, поэта Гриши Левина, было литературное объединение «Магистраль» при Доме железнодорожников, в которое входил Булат, — рассказывает Марлен Хуциев. — И Феликс познакомил нас. Впервые я слышал песню Булата «Я вновь повстречался с надеждой» в исполнении интеллигентов «Магистрали». Они пели хором, потом поднимали бокалы. Все это походило на клятву и произвело на меня огромное впечатление».
Спрашиваю у Марлена Хуциева, как он не боялся окружать себя дебютантами. Отвечает: «Я вообще рисковый человек. Ну кто бы на моем месте решился пригласить студента третьего курса и с ним работать? У меня снимался Валя Попов, который до этого играл в народном театре ЗИЛа. К сожалению, он рано ушел из жизни. У Николая Губенко — это первая роль. Станислав Любшин до этого только где-то мелькнул. Кстати, с Петей Тодоровским, тогда еще оператором, мы жили в одном общежитии на Лосинке, готовили на одной плите. В Одессу он попал из-за меня. Встретились как-то, я говорю: «Поехали снимать кино в Одессу». Он согласился. Я тогда ни одного снятого им метра не видел. Позвал из-за человеческой симпатии».
Валентин Попов, сыгравший 23-летнего сына, который спрашивает у погибшего на войне отца о том, как жить, остался самым неизвестным героем этой истории. Чрезвычайно одаренный, он не сделал актерской карьеры. Пытался заниматься режиссурой, и тут что-то не заладилось. А когда снимался в «Заставе Ильича», не вписался в компанию золотой молодежи, будучи по сути заводским парнем. Марианна Вертинская, сыгравшая его возлюбленную, общалась с другими: «Мы с Валей особенно не дружили. У меня была компания художников, Андрона Кончаловского, Андрея Тарковского, Паши Финна. А Валю я как-то встретила в Елисеевском магазине. Он уехал, по-моему, на Одесскую студию, пытался снимать как режиссер, что-то писал. Закончил какие-то режиссерские курсы. Переживал, что ничего не получается. У него было депрессивное состояние. А потом я узнала, что он умер».
Непосвященному и в голову не придет, что знаменитая сцена в Политехническом музее с участием Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко — постановочная, а не реальный поэтический вечер. Марлен Хуциев вспоминает, как поэты читали стихи, каждый сам по себе: «Я слышал Беллу Ахмадулину в одном клубе. Побывал на вечере Евтушенко. Потом возникла идея с Политехническим. По 8 часов длилась съемочная смена. Мы 9 коробок пленки отсняли. И каждый раз приходили разные люди. А началось с того, что я увидел афишу Политехнического музея, на которой был заявлен диспут о молодежи. Я впервые попал в эту аудиторию и понял, где надо снимать. Тут же сочинил историю, решил установить телевизионные камеры в зале, создать иллюзию, что идет съемка передачи. А помогла нам тогдашний министр культуры Фурцева. Когда первый вариант фильма был принят, она сказала, что у нас очень сильная сцена первомайской демонстрации, но во второй части не хватает такого же эмоционального акцента».
Марианна Вертинская считает, что если бы Марлен Хуциев не придумал сцены в Политехническом, то просто ничего бы не осталось: «Мой папа Александр Вертинский был гениальным певцом, поэтом и композитором. Все говорят о его руках, о том, как он точно делал акцент, как пел «Маленькую балерину». Но нет ни одного кадра с отцом. Есть картины, в которых он снимался, — «Анна на шее», «Пламя гнева». Но это другое. То, что сделал Хуциев, — великое дело. Кто бы знал теперь, какой была молодая Белла Ахмадулина? Булата Окуджаву позднее много снимали, но такого молодого, когда он с гитарой выходил, нет больше нигде».
А потом крупный советский кинорежиссер, работавший на той же студии, где снималась «Застава Ильича», накатал донос, что это вредное кино. Марлен Хуциев отказывается называть его имя, только уточняет, что это не Герасимов, не Ромм, не Луков. Кстати, Михаил Ромм, посмотрев «Заставу Ильича», сказал: «Марлен, вы оправдали свою жизнь». Раскрыл тайну человек, принимавший участие в написании письма, литературный секретарь Михаила Шолохова. Хуциев рассказывает: «После того как мы сняли картину, и я уже начал работу над другим фильмом, он позвонил мне и предложил сценарий. Тогда же спросил: «А вы знаете, кому вы обязаны неприятностями? Я редактировал это письмо». И назвал мне имя. Когда начались гонения, от меня отвернулись все, кроме съемочной группы. Люди струсили. Те, кто одолжил денег до зарплаты, срочно требовали их вернуть. Сергей Герасимов держался в той ситуации стойко. Его обязали курировать нашу картину. Он ничего не навязывал. Министр культуры Екатерина Фурцева официально превратила фильм в двухсерийный. Меня все время ругали, что я на месяц задержал его сдачу. А я снял вместо одной серии две, задействовал более 60 объектов в Москве».
«Заставу Ильича» снимала Маргарита Пилихина, женщина-оператор, что было редкостью. Хуциев предлагал снимать картину своему другу Петру Тодоровскому. Но он все никак не мог определиться, тянул время, по словам Хуциева, а потом выяснилось — готовился к своей картине. «А Рита сама попросилась, сказала, что ей очень нравится сценарий. Я не тот режиссер, которому оператор предлагает, как снимать. К мизансценам не подпускаю. Маргарита Пилихина — двоюродная сестра Георгия Жукова. И этим все сказано. Она ручной камерой снимала демонстрацию, которую мы тоже организовывали», — вспоминает Марлен Хуциев.
Марианна Вертинская: «Мы все друг от друга прикуривали»
Для Марианны Вертинской «Застава Ильича» стала, пожалуй, самой важной картиной. Но в первые дни снималась в ней актриса из массовки. Мы встретились с Марианной Вертинской в ее квартире на Арбате. Она хранит немало фотографий, на которых запечатлены юный Шпаликов, Хуциев, весивший 45 кг, так что не каждый лифт его поднимал, Джульетта Мазина, оказавшаяся причастной к истории фильма.
«Я снималась у Анатолия Эфроса в первой моей картине, «Високосный год», — вспоминает актриса. — Я ходила на фотопробы «Причала» по сценарию Шпаликова. И Марлен Мартынович обратил на меня внимание. У него горели сроки. Началась паника, поскольку не было героини. Последний съемочный день у Эфроса — а уже на следующий день меня утвердили в «Заставу Ильича». Сергей Герасимов сказал, что это попадание в яблочко. Его фраза потом ходила по студии Горького».
Хуциев уже снял картины «Весна на Заречной улице» и «Два Федора». Марианне Вертинской и ее ровесникам он представлялся человеком с биографией. Но память сохраняет и другое: «Марлен Мартынович — очень поэтичный человек. Он живет в своем мире, в который и нас хотел ввести. Мы работали скорее по состоянию, не шли по пути психологического разбора. Делали много дублей, иногда по 15. Он скрупулезно добивался нужного оттенка, переснимал какой-нибудь небольшой эпизод».
С Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским Марианна Вертинская познакомилась еще до «Заставы Ильича». «Когда снималась у Эфроса и была утверждена у Хуциева, — вспоминает актриса, — меня вызвал Тарковский на роль, которую потом сыграла Валентина Малявина в «Ивановом детстве». Сделали фотопробы. От кинопроб я отказалась из-за съемок у Хуциева. Тогда Марлен Мартынович был уже величина, а Тарковский еще ничего не снял, кроме «Катка и скрипки». Тогда все говорили, что «Застава Ильича» будет явлением. Сценарий написан Геной Шпаликовым, песенки которого все пели тогда под гитару. Я, как галчонок, смотрела на все. Заканчивались съемки, и мы ехали в Дом литераторов или ВТО, на дачу к Андрону, ходили на пляж, читали. Впервые Андрон достал стихи Мандельштама, «Доктора Живаго». Все это вслух читали. Мы дружили, любили, были романы. Очень интересное было время. Я из него вышла».
— А насколько вы все были свободны?
— Разнузданности не было ни в ком. Мы все были молоды, полны эмоций, верили в светлое будущее. Жизнь только начиналась.
— Понимали, что на каждом квадратном сантиметре — будущий гений?
— Было ощущение, что все очень талантливы. Андрей начал снимать «Рублева». Помню, как они с Андроном писали сценарий, хотели, чтобы Слава Любшин сыграл главную роль. «Застава Ильича» снималась около четырех лет. Ее закрывали, потом пролонгировали. Потом случилась история с Хрущевым, после которой все едва не грохнулось. Но все были полны надежд, а не упадничества. Это свойственно молодым людям. Эфроса как-то спросили, нравится ли ему одна артистка. Он ответил: «Да, нормальная». На вопрос «а чего же вы ее не снимаете?» он ответил: «Не прикуриваю. Не зажигает». А мы все друг от друга прикуривали.
— Какое впечатление произвел готовый фильм?
— Тогда актеров в монтажную не пускали. Сцена, где герой разговаривает с мертвым отцом, вызвала жуткую критику. Успокоились после того, как Феллини, приехавший в Москву с фильмом «8½», похвалил ее. Ему показали «Заставу Ильича» тайно. Когда были в Риме на Неделе советского фильма, Феллини пригласил нас на свою виллу. Но сначала мы поехали в кинотеатр и посмотрели его «Джульетту и духи». У меня есть две фотографии от Джульетты Мазины. На одной, где она с платком, написано: «Марианне. Ты мне нравишься». На второй она с кошкой. У Джульетты Мазины было семь кошек. Каждая носила имя одной из ее героинь. Была среди них и Кабирия. Потом по приглашению японской компартии я 21 день провела в Японии. Там очень любят «Заставу Ильича», отмечают юбилеи картины.
— Многие думают, что сценарий написал один Шпаликов, а про Миронера ничего не знают.
— Может быть, изначально канву написал Миронер. Но легкость диалога, которая в картине есть, когда один разговор накладывается на другой, это, конечно, от Гены. Он постоянно бывал на площадке, что-то дописывал, подсказывал. Раз Феликс Миронер захотел снять свое имя, чего тут обсуждать. Столько лет прошло. Многие уже в могилах лежат.
«Заставу Ильича» теперь все время противопоставляют «Оттепели» Валерия Тодоровского, которая вызвала у многих режиссеров старшего поколения резко отрицательное отношение. А Марианне Вертинской картина понравилась: «Художник имеет право на раскраску и интерпретацию. Главную героиню, которую играет Анна Чиповская, зовут Марианна. Оператор дает кому-то в морду — такое буйство свойственно моему поколению. Что-то задиристое в нас было».
Светлана Светличная: «Михаил Ромм сказал: «У этого человека надо всегда сниматься»
Фото: Борис Кремер
В «Заставе Ильича» делали первые шаги очень известные актеры. Ольга Гобзева, ныне инокиня, сыграла девушку, дающую пощечину Андрею Тарковскому. Теперь она раскаивается в этом и говорит, что, возможно, в иночество пришла из-за этой пощечины. Светлана Светличная появилась в сцене молодежной вечеринки. Красоты была необыкновенной. Роль у нее небольшая, но из тех, что складывают мозаику этой картины.
Светлана Светличная рада, что принимала «маленькое участие» в картине: «Уверена, что наши потомки будут судить о нас по фильмам Марлена Хуциева. В своей серьезности он романтик, доверчивый, как ребенок. «Застава Ильича» — наша история без прикрас. Когда поступило предложение от Марлена Хуциева, я обратилась за советом к Михаилу Ильичу Ромму. Он сказал: «У этого человека надо всегда сниматься. И я всегда буду отпускать к нему своих студентов». У Марлена Хуциева я поняла, что такое кино и команда «Мотор!». Мне до сих пор льстит, что он рассмотрел в импозантной девице настоящую душу. Единственное, что меня одолевало, так это беспокойство по поводу того, смогу ли я соответствовать тому, что задумал режиссер. У Марлена Хуциева — как в сказке: здесь русский дух, здесь Русью пахнет, хотя он в общем-то не из Саратова. То, что у него получилось, — не случайность, а небесный промысел. Вспоминаю эпизод с пощечиной, и по телу мурашки идут. А сцена, когда герои ночью столкнулись, не ведая о том, что могут встретиться. Только такой романтик, как Хуциев, мог все это придумать. Я когда это увидела, поняла, что во мне это тоже всегда жило. Вот так можно выбежать пулей и встретиться с человеком или солнцем, любимой буренкой». А вот проблемы, возникшие вокруг картины, Светлану Светличную обошли стороной. Слишком молода была, о каких-то вещах не задумывалась: «У меня же не главная роль. Это Марьяна Вертинская была в курсе событий. Она получила на картине такой заряд для будущего! Все, что она сделала в молодости, — все это получила от Марлена Хуциева».
Два раза посмотрел «Заставу Ильича». Это больше семи часов подряд. Но в первый раз вечером, а во второй раз повторяли днем.
И только тогда, наконец, понял, про что фильм. Его эпиграфом может быть шуточная басня, которую как бы невзначай цитирует герой Тарковского: «С фуганком повстречалась фуга. Мораль: им не понять друг друга». Фильм не просто гениальный — он пророческий, поскольку в нем отразилось будущее всех актеров, поэтов, режиссеров и сценаристов, в нем занятых.
Итак, живет на свете мир фуганков, т.е. советская цивилизация. У него есть базис в виде трех товарищей (рабочий и два инженера) и присущих им девушек (инженеров, кондукторш, работниц). Но один из трех товарищей, главный герой Сережа, начинает рефлексировать и вскоре обнаруживает, что он слишком нормальный. У него все так, как должно быть у советского человека: революция, песня Интернационал, 37-й год, война, картошка. Наверно, это и хорошо. И его эта жизнь вполне бы устроила. Но не устраивают девушки своего уровня. Он хочет ту, что повыше статусом и поидеальнее. Сережа находит Аню — дочь работника партноменклатуры , перерезающего ленточки на выставках. Ее тоже что-то не устраивает в жизни. Например, мировоззрение отца и бывший муж-дурак с тремя языками. Она ищет кого-то попроще, но тоже поидеальнее. Сергей и Аня встречаются, и Аня ведет Сергея посмотреть на надстройку фуганочной цивилизации. Собственно, все очень просто: Сергей — из тех, кем руководят, Аня — из тех, кто руководит, а Евтушенко, Вознесенский и прочие — из тех, кто обслуживает обе части фуганочной цивилизации. Они читают стихи про винтиков, которые не хотят быть винтиками и находятся в самоупоении от полученной сверху свободы. У обслуги фуганков есть пример в лице поэтов комсомольской юности типа Светлова. И над всем этим — разумеется, Маяковский, кумир пролетариев, в виде памятника. Думая о любимой, Сергей читает именно Маяковского.
Этот мир фуганков был бы устроен на редкость хорошо и гармонично, если бы не противостоящий ему мир фуг. Мир фуг манифестирован миром фиг, которые постоянно достает из кармана и показывает миру фуганков продвинутая молодежь, собравшаяся на вечеринке. И вот тут только знай следи, все судьбы напоказ. Итак, в вечеринке участвуют: лидер мирового кино Тарковский, два сценариста фильмов Ильи Авербаха (второго по значимости русского режиссера после Тарковского) Павел Финн и Наталья Рязанцева, будущая монахиня Ольга Гобзева и будущая актриса-модель Светлана Светличная. Между тусовками тех и этих бегает Кончаловский, который нигде надолго не задерживается. Что происходит? Со стороны Тарковского — тотальное вышучивание всей традиции (как потом у скомороха в «Рублеве») и отказ от контекста цивилизации фуганков. Он не скептик, а бессознательный, стихийный мятежник, камня на камне не оставляющий от всей русско-советской цивилизации. Финн говорит, что ни к чему сейчас нельзя относиться серьезно. Он потом найдет этот серьез в сценарии «Объяснения в любви», но до этого еще большой путь. Гобзева — матушка Церковь, хранящая скрепы — даст мятежнику Тарковскому пощечину. И потом сама будет ходить как маятник, осуждая себя за то, что сделала. И в то же время понимать — не могла не сделать. Обратите внимание: многие герои названы именами актеров, но Гобзева — не Ольга, а Вера. Это гениально! Светличная — образ будущего гламура: сочетание русских народных песен с работой манекенщицы, полу-деревня и полу-город. Сергей понимает, что здесь конец и его миру, и его отношениям с Аней. Светличная ему как-то ближе.
Мир фиг станет миром фуг. Между прочим, Тарковский и все остальные — ровесники Евтушенко и остальных. Это одно поколение. Но они из разных миров. Так вот, мир фиг станет миром фуг. Из разрушителей — мятежников и скептиков — вдруг вырастут творцы нового человечества. Мир фуг в конце прошлого столетия физически разрушит мир фуганков. Рабочим, инженерам, обыкновенным созидателям будет трудно выжить в усложненном мире, построенном прогрессивными учеными и авторским кино. Советская цивилизация погибнет под гнетом этой невыносимой для нее сложности. Но в начале был отказ от советского контекста, т.е. от всех этих интернационалов и картошек. Фига в кармане как пропуск в новый мир, за которым — страдание миллионов простых людей. Это трагедия. Это, если хотите, Дарвин. Выживают и дают потомство наиболее приспособленные, наиболее усложняющиеся, приобретающие новые, небывалые черты, обладающие ветвящимся поликонтекстуальным мышлением. Как Тарковский, заключающие русский деревенский дом в своды католического собора.
А что же Сережа? Сережа держится за Мавзолей как за последнюю из существующих скреп. Это финал не только фильма, но и жизни фуганков. Если бы Попов был жив, он был бы вместе с Губенко в КПРФ.
Вот о чем получился фильм Хуциева.
А что же сам Хуциев, на чьей он стороне? Он — та самая трещина, которая прошла по сердцу поэта. В фильме о советских людях полно вставок из барочной музыки. Он и там, и здесь. Да и не об этом ли «Весна на Заречной улице»? Тоже фуганок и фуга.













