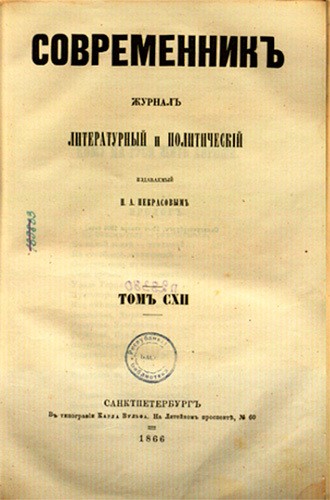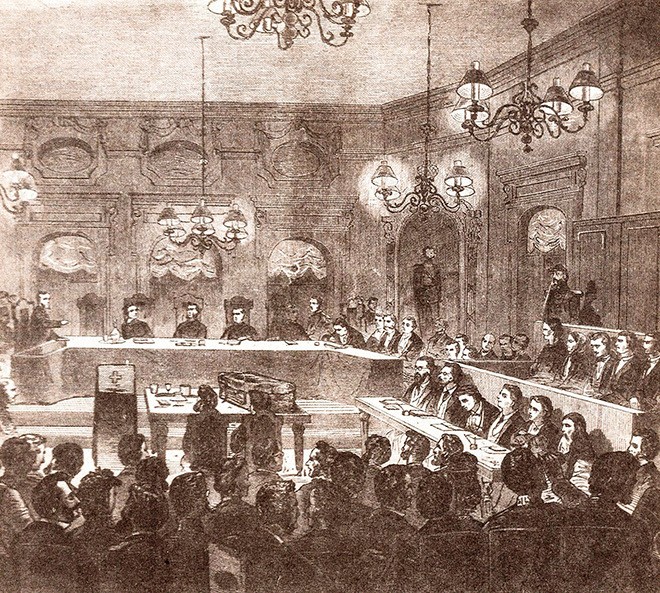Действие происходит в провинциальном городке Скотопригоньевске в 1870-е гг. В монастыре, в скиту знаменитого старца Зосимы, известного подвижника и целителя, собираются для выяснения своих семейных имущественных дел Карамазовы — отец Федор Павлович и сыновья — старший Дмитрий и средний Иван. На этом же собрании присутствуют и младший брат Алеша, послушник у Зосимы, а также ряд других лиц — родственник Карамазовых богатый помещик и либерал Миусов, семинарист Ракитин и несколько духовных лиц. Повод — спор Дмитрия с отцом о наследственных отношениях. Дмитрий считает, что отец должен ему крупную сумму, хотя очевидных юридических прав у него нет. Федор же Павлович, дворянин, помещик из мелких, бывший приживальщик, злой и обидчивый, денег давать сыну вовсе не собирается, а соглашается на встречу у Зосимы скорее из любопытства. Отношения Дмитрия с отцом, который никогда особой заботы о сыне не проявлял, напряжены не только из-за денег, но и из-за женщины — Грушеньки, в которую оба страстно влюблены. Дмитрий знает, что у похотливого старика для неё приготовлены деньги, что он готов даже жениться, если та согласится.
Встреча в скиту представляет сразу почти всех главных героев. Страстный порывистый Дмитрий способен на опрометчивые поступки, в которых потом сам же глубоко раскаивается. Умный, загадочный Иван мучается вопросом о существовании Бога и бессмертия души, а также ключевым для романа вопросом — все дозволено или не все? Если есть бессмертие, то не все, а если нет, то умный человек может устроиться в этом мире как ему заблагорассудится, — такова альтернатива. Федор Павлович — циник, сладострастник, скандалист, комедиант, стяжатель, всем своим видом и действиями вызывает у окружающих, в том числе и у собственных сыновей, омерзение и протест. Алеша — юный праведник, чистая душа, болеет за всех, особенно же за братьев.
Ничего из этой встречи, кроме скандала, за которым последуют ещё многие, не происходит. Однако мудрый и проницательный старец Зосима, остро чувствующий чужую боль, находит слово и жест для каждого из участников встречи. Перед Дмитрием он становится на колени и кланяется до земли, как бы предчувствуя его будущее страдание, Ивану отвечает, что вопрос ещё не решён в его сердце, но если не решится в сторону положительную, то не решится и в сторону отрицательную, и благословляет его. Федору Павловичу он замечает, что все его шутовство от того, что он стыдится себя. От утомлённого старца большая часть участников встречи по приглашению игумена переходит в трапезную, но там же неожиданно появляется с обличающими монахов речами и Федор Павлович. После очередного скандала все разбегаются.
Старец после ухода гостей благословляет Алешу Карамазова на великое послушание в миру, наказывая ему быть рядом с братьями. Следуя наставлению старца, Алеша направляется к отцу и встречает прячущегося в соседнем с отцовской усадьбой саду брата Дмитрия, который сторожит здесь свою возлюбленную Грушеньку, если та, соблазнённая деньгами, все-таки решится прийти к Федору Павловичу. Здесь, в старинной беседке, Дмитрий восторженно исповедуется Алеше. Ему, Дмитрию, случалось погружаться в самый глубокий позор разврата, но в этом-то позоре он начинает чувствовать связь с Богом, ощущать великую радость жизни. Он, Дмитрий, сладострастное насекомое, как и все Карамазовы, а сладострастие — буря, большие бури. В нем живёт идеал Мадонны, как и идеал содомский. Красота — страшная вещь, говорит Дмитрий, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей. Рассказывает Дмитрий Алеше и о своих отношениях с Катериной Ивановной, благородной девицей, отца которой он когда-то спас от позора, ссудив его недостающими для отчёта в казённой сумме деньгами. Он предложил, чтобы сама гордая девушка пришла к нему за деньгами, та явилась, униженная, готовая ко всему, но Дмитрий повёл себя как благородный человек, дал ей эти деньги, ничего взамен не потребовав. Теперь они считаются женихом и невестой, но Дмитрий увлечён Грушенькой и даже прокутил с ней на постоялом дворе в селе Мокрое три тысячи, данные ему Катериной Ивановной для отсылки сестре в Москву. Он считает это главным своим позором и как честный человек должен всю сумму непременно вернуть. Если же Грушенька придёт к старику, то Дмитрий, по его словам, ворвётся и помешает, а если… то и убьёт старика, которого люто ненавидит. Дмитрий просит брата сходить к Катерине Ивановне и сказать ей, что он кланяется, но больше не придёт.
В доме отца Алеша застаёт за коньячком Федора Павловича и брата Ивана, забавляющихся рассуждениями лакея Смердякова, сына бродяжки Лизаветы и, по некоторым предположениям, Федора Павловича. А вскоре внезапно врывается Дмитрий, которому показалось, что пришла Грушенька. В ярости он избивает отца, но убедившись, что ошибся, убегает. Алеша же направляется по его просьбе к Катерине Ивановне, где неожиданно застаёт Грушеньку. Катерина Ивановна ласково обхаживает её, показывая, что заблуждалась, считая её продажной, а та медоточиво ей отвечает. В конечном счёте все опять заканчивается скандалом: Грушенька, собираясь было поцеловать ручку Катерины Ивановны, внезапно демонстративно отказывается это сделать, оскорбив соперницу и вызвав её ярость.
На следующий день Алеша, переночевав в монастыре, снова идёт по мирским делам — сначала к отцу, где выслушивает очередную исповедь, теперь уже Федора Павловича, который жалуется ему на сыновей, а про деньги говорит, что они ему самому нужны, потому что он пока все-таки мужчина и хочет ещё лет двадцать на этой линии состоять, что в скверне своей до конца хочет прожить и Грушеньку Дмитрию не уступит. Сплетничает он Алеше и про Ивана, что тот у Дмитрия невесту отбивает, потому что сам в Катерину Ивановну влюблён.
По пути Алеша видит школьников, бросающих камни в маленького одинокого мальчика. Когда Алеша подходит к нему, тот сначала бросает в него камнем, а потом больно кусает за палец. Этот мальчик — сын штабс-капитана Снегирева, который недавно был унизительно вытащен за бороду из трактира и избит Дмитрием Карамазовым за то, что имел какие-то вексельные дела с Федором Павловичем и Грушенькой.
В доме Хохлаковой Алеша застаёт Ивана и Катерину Ивановну и становится свидетелем очередного надрыва: Катерина Ивановна объясняет, что она будет верна Дмитрию, будет «средством для его счастья», и спрашивает мнение Алеши, который простодушно объявляет, что она вовсе не любит Дмитрия, а только уверила себя в этом. Иван сообщает, что уезжает надолго, потому что не хочет сидеть «подле надрыва», и добавляет, что Дмитрий ей нужен, чтобы созерцать беспрерывно свой подвиг верности и упрекать его в неверности.
С двумя сотнями рублей, данными ему Катериной Ивановной для пострадавшего от рук Дмитрия штабс-капитана Снегирева, Алеша направляется к нему. Поначалу капитан, отец большого семейства, живущего в крайней нищете и болезнях, юродствует, а затем, расчувствовавшись, исповедуется Алеше. Он принимает от него деньги и вдохновенно представляет, что теперь сможет осуществить.
Затем Алеша снова посещает госпожу Хохлакову и душевно беседует с её дочерью Лизой, болезненной и экспансивной девочкой, которая написала ему недавно о своей любви и решила, что Алеша должен на ней непременно жениться. Спустя короткое время она признается Алеше, что хотела бы быть истерзанной — например, чтоб на ней женились и потом бросили. Она описывает ему страшную сцену истязания распятого ребёнка, воображая, что сама сделала это, а потом села напротив и стала есть ананасный компот, «Бесёнок» — назовёт её Иван Карамазов.
Алеша направляется в трактир, где, как стало ему известно, находится брат Иван. В трактире происходит одна из ключевых сцен романа — свидание двух «русских мальчиков», которые если сойдутся, то тут же начинают о мировых вековечных вопросах. Бог и бессмертие — один из них. Иван приоткрывает свою тайну, отвечая на незаданный, но чрезвычайно интересующий Алешу вопрос, «каково ты веруешь?».
В нем, Иване, есть карамазовская жажда жизни, он любит жизнь вопреки логике, ему дороги клейкие весенние листочки. И он не Бога не принимает, а мира Божьего, полного безмерных страданий. Он отказывается согласиться с гармонией, в основании которой слезинка ребёнка. Он выкладывает Алеше «фактики», свидетельствующие о вопиющей людской жестокости и детском страдании. Иван пересказывает Алеше свою поэму «Великий инквизитор», действие которой происходит в шестнадцатом столетии в испанском городе Севилья. Девяностолетний кардинал заточает в тюрьму второй раз сошедшего на землю Христа и во время ночной встречи излагает Ему свой взгляд на человечество. Он убеждён, что Христос идеализировал его и что оно недостойно свободы. Выбор между добром и злом — мука для человека. Великий инквизитор с соратниками решают исправить дело Христово — побороть свободу и самим устроить человеческое счастье, превратив человечество в послушное стадо. Они берут на себя право распоряжаться человеческой жизнью. Инквизитор ждёт ответа от Христа, но тот только молча целует его.
Расставшись с Алешей, Иван по пути домой встречает Смердякова, и между ними происходит решающий разговор. Смердяков советует Ивану ехать в деревню Чермашню, где старик продаёт рощу, он намекает на то, что в его отсутствие с Федором Павловичем может произойти все, что угодно. Иван обозлён смердяковской наглостью, но в то же время и заинтригован. Он догадывается, что от его решения многое сейчас зависит. Он решает ехать, хотя по пути изменяет маршрут и направляется не в Чермашню, а в Москву.
Между тем умирает старец Зосима. Все ждут после смерти праведника чуда, а вместо этого очень скоро появляется запах тления, что производит смуту в душах. Смущён и Алеша. В таком настроении уходит он из монастыря в сопровождении семинариста-атеиста Ракитина, интригана и завистника, который ведёт его в дом к Грушеньке. Хозяйку они находят в тревожном ожидании какой-то вести. Обрадованная приходу Алеши, она сначала ведёт себя как кокетка, садится ему на колени, но, узнав про смерть Зосимы, резко меняется. В ответ на Алешины тёплые слова и то, что он её, грешную, называет сестрой, Грушенька оттаивает сердцем и посвящает его в свои терзания. Она ждёт весточки от своего «бывшего», который когда-то соблазнил её и бросил. Много лет она лелеяла мысль о мщении, а теперь готова поползти, как собачонка. И действительно, сразу после получения весточки она мчится на зов «бывшего» в Мокрое, где тот остановился.
Алеша, умиротворённый, возвращается в монастырь, молится возле гроба Зосимы, слушает чтение отцом Паисием Евангелия о браке в Кане Галилейской, и ему, задремавшему, чудится старец, который хвалит его за Грушеньку. Сердце Алеши все больше наполняется восторгом. Очнувшись, выходит он из кельи, видит звезды, золотые главы собора и повергается в радостном исступлении на землю, обнимает и целует её, душой прикоснувшись к мирам иным. Простить ему хочется всех и у всех прощения просить. Что-то твёрдое и незыблемое входит в его сердце, преображая его.
В это время Дмитрий Карамазов, терзаемый ревностью к отцу из-за Грушеньки, мечется в поисках денег. Он хочет увезти её и начать вместе с ней где-нибудь добродетельную жизнь. Нужны ему деньги и для того, чтобы возвратить долг Катерине Ивановне. Он идёт к покровителю Грушеньки, богатому купцу Кузьме Самсонову, предлагая за три тысячи свои сомнительные права на Чермашню, а тот в насмешку посылает его к купцу Горсткину (он же Лягавый), торгующему у Федора Павловича рощу. Дмитрий мчится к Горсткину, находит его спящим, всю ночь ухаживает за ним, чуть не угоревшим, а утром, пробудившись после недолгого забытья, застаёт мужика безнадёжно пьяным. В отчаянии Дмитрий направляется к Хохлаковой одолжить денег, та же пытается вдохновить его идеей золотых приисков.
Потеряв время, Дмитрий спохватывается, что, может, упустил Грушеньку, и, не найдя её дома, крадётся к отцовскому дому. Он видит отца одного, в ожидании, но сомнение не покидает его, так что он производит секретный условный стук, которому научил его Смердяков, и, убедившись, что Грушеньки нет, бежит прочь. В этот момент и замечает его вышедший на крыльцо своего домика камердинер Федора Павловича Григорий. Он бросается за ним и настигает, когда тот перелезает через забор. Дмитрий бьёт его захваченным в доме Грушеньки пестиком. Григорий падает, Дмитрий спрыгивает к нему посмотреть, жив ли он, и вытирает ему окровавленную голову носовым платком.
Затем он снова бежит к Грушеньке и уже там добивается от служанки правды. Дмитрий с внезапно оказавшейся в его руках пачкой сторублёвых кредиток направляется к чиновнику Перхотину, которому совсем недавно за десять рублей заложил пистолеты, чтобы вновь выкупить их. Здесь он немного приводит себя в порядок, хотя весь вид его, кровь на руках и одежде, а также загадочные слова возбуждают у Перхотина подозрения. В соседней лавке Дмитрий заказывает шампанское и прочие яства, веля доставить их в Мокрое. И сам, не дожидаясь, скачет туда на тройке.
На постоялом дворе он застаёт Грушеньку, двух поляков, симпатичного молодого человека Калганова и помещика Максимова, развлекающего всех своим шутовством. Грушенька встречает Дмитрия с испугом, но затем радуется его приезду. Тот робеет и заискивает перед ней и перед всеми присутствующими. Разговор не клеится, тогда затевается партия в карты. Дмитрий начинает проигрываться, а потом, видя загоревшиеся глаза вошедших в азарт панов, предлагает «бывшему» деньги, чтобы тот отступился от Грушеньки. Внезапно обнаруживается, что поляки подменили колоду и за игрой мухлюют. Их выводят и запирают в комнате, начинается гулянье — пир, песни, пляски… Грушенька, захмелев, вдруг понимает, что только одного Дмитрия и любит и теперь связана с ним навечно.
Вскоре в Мокром появляются исправник, следователь и прокурор. Дмитрия обвиняют в отцеубийстве. Он поражён — ведь на его совести только кровь слуги Григория, а когда ему сообщают, что слуга жив, то он сильно воодушевляется и с готовностью отвечает на вопросы. Выясняется, что не все деньги Катерины Ивановны были им растрачены, а только часть, остальная же была зашита в мешочек, который Дмитрий носил на груди. В этом была его «великая тайна». В том был и позор для него, романтика в душе, проявившего некоторую осмотрительность и даже расчётливость. Именно это признание даётся ему с наибольшим трудом. Следователю же понять это вовсе не под силу, а прочие факты свидетельствуют против Дмитрия.
Во сне Митя видит плачущее в тумане дитё на руках измождённой бабы, он все домогается узнать, почему оно плачет, почему не кормят его, почему голая степь и почему не поют радостных песен.
Великое, никогда не бывалое умиление поднимается в нем, и хочется ему что-то сделать, хочется жить и жить, и в путь идти «к новому зовущему свету».
Вскоре выясняется, что убил Федора Павловича лакей Смердяков, притворявшийся разбитым падучей. Как раз в тот момент, когда старик Григорий лежал без сознания, он вышел и, маня Федора Павловича Грушенькой, заставил отпереть дверь, несколько раз ударил по голове пресс-папье и забрал из известного только ему места роковые три тысячи. Теперь уже действительно больной Смердяков сам рассказывает обо всем посетившему его Ивану Карамазову, вдохновителю преступления. Ведь именно его идея вседозволенности произвела на Смердякова неизгладимое впечатление. Иван не хочет признать, что преступление было совершено с тайного его согласия и при его попустительстве, но муки совести так сильны, что он сходит с ума. Ему мерещится черт, эдакий русский джентльмен в клетчатых панталонах и с лорнетом, который насмешливо высказывает собственные мысли Ивана, а тот пытает его, есть Бог или нет. Во время последнего свидания со Смердяковым Иван говорит, что признается во всем на предстоящем суде, и тот, растерянный, при виде нетвёрдости так много значившего для него Ивана, отдаёт ему деньги, а потом вешается.
Катерина Ивановна вместе с Иваном Федоровичем строят планы побега Дмитрия в Америку. Однако между ней и Грушенькой продолжается соперничество, Катерина Ивановна ещё не уверена, как она выступит на суде — вызволительницей или погубительницей своего бывшего жениха. Дмитрий же во время свидания с Алешей выражает желание и готовность пострадать и страданием очиститься. Судебный процесс начинается опросом свидетелей. Свидетельства за и против поначалу не складываются в ясную картину, но, скорее, все-таки в пользу Дмитрия. Поражает всех выступление Ивана Федоровича, который после мучительных колебаний сообщает суду, что убил повесившийся Смердяков, и в подтверждение выкладывает пачку полученных от него денег. Смердяков убил, говорит он, а я научил. Он бредит в горячке, обвиняя всех, его силой уводят, но сразу после этого начинается истерика Катерины Ивановны. Она предъявляет суду документ «математической» важности — полученное накануне преступления письмо Дмитрия, где тот грозится убить отца и взять деньги. Это показание оказывается решающим. Катерина Ивановна губит Дмитрия, чтобы спасти Ивана.
Далее ярко, красноречиво и обстоятельно выступают местный прокурор и известный столичный адвокат Фетюкович. Оба умно и тонко рассуждают, рисуют картину российской карамазовщины, проницательно анализируют социальные и психологические причины преступления, убеждая, что обстоятельства, атмосфера, среда и низкий отец, который хуже чужого обидчика, не могли не подтолкнуть к нему. Оба заключают, что Дмитрий — убийца, хотя и невольный. Присяжные признают Дмитрия виновным. Дмитрия осуждают.
После суда Дмитрий заболевает нервной лихорадкой. К нему приходит Катерина Ивановна и признается, что Дмитрий навсегда останется язвой в её сердце. И что хоть она любит другого, а он другую, все равно она и его, Дмитрия, будет любить вечно. И ему наказывает любить себя всю жизнь. С Грушенькой же они так и остаются непримиренными врагами, хоть Катерина Ивановна скрепя сердце и просит у той прощения.
Завершается роман похоронами Илюшеньки Снегирева, сына капитана Снегирева. Алеша Карамазов призывает собравшихся у могилы мальчиков, с которыми подружился, посещая Илюшу во время его болезни, быть добрыми, честными, никогда не забывать друг о друге и не бояться жизни, потому что жизнь прекрасна, когда делается хорошее и правдивое.
5 ПОДВИГ
1
Хочется кричать истерическим криком.
Тем самым, которого так много в этом истеричнейшем романе
Достоевского.
Хочется протестовать всеми силами против отношения
московской печати к подвигу Художественного театра.
«Карамазовы» хороши уже тем, что принесли бурю.
Что в слякотность нашей мещанины внесли спор, оживление,
борьбу.
Послушайте, как страстно-престрастно обрушились на театр.
Прослушали первый вечер невнимательно, принужденно, с предвзятою
мыслью, с заранее обдуманным намерением и вынесли обвинительный приговор.
И вынесли, и записали, и загарцевали, распуская хвосты
дешевой эрудиции, повторяя общие, затасканные места.
— Роман нельзя инсценировать, потому что роман, это —
роман, а пьеса, это — пьеса. Пьеса тем и отличается от романа, что она не
роман. А роман тем отличается от пьесы, что он не пьеса.
На эту тему пишут много.
Почти все.
Почти все с язвительностью отмечают:
— То, что нам дал Художественный театр, не роман и не
драматическое произведение. Ни рыба — ни мясо.
Будто непременно нужно, чтобы была рыба или мясо, а что не
рыба и не мясо, то не должно и существовать в списке «пищ».
А хлеб, а овощи, а фрукты? — Ведь это не рыба и не
мясо, а между тем это существует же в списке пищ!
И «Братья Карамазовы» на сцене Художественного театра не
роман, не драма и следовательно не должны существовать в списке дозволенных
театральной критикой «духовных пищ»?
Но разве Художественный театр говорил кому-нибудь, что это
драма, или комедия, или трагедия…
Разве он совершил подлог?
Разве он не написал для тех лиц, которые не могут отличить
льва от собаки:
— Се — лев, а не собака!
На афише ясно написано:
«Отрывки из романа Ф. М. Достоевского».
Действительно, это не роман, не драма, а — отрывки.
И те, которые на сотнях строк остроумно доказывают, что это
не роман и не драма, а отрывки, ломятся в открытую дверь.
Стоит им только прочитать внимательно афишу и они увидят,
что сам Художественный театр хорошо понимает, чтó он сделал.
«Отрывки»…
Тогда отпадает обвинение в отрывочности зрелища…
2
Идут дальше:
— И отрывков не надо инсценировать!
Почему не надо?
— Потому, что не-воз-мож-но!..
Ну, а если бы даже Художественный театр пытался сделать и
невозможное?
За что же и тогда это обозленное шипение?
6 Разве
меньше красоты в полете авиатора, который хотел достичь недостигаемой высоты и
упал наземь, чем в полете Уточкина, который поднимается только до такой черты,
которая ничуть не угрожает его драгоценному здоровью!
Художественный театр хотел достичь недостигаемых высот,
невиданных Красот, — и слава ему.
Слава даже в том случае, если бы он упал наземь и сломал
себе шею.
Но наземь он не упал.
Он достиг многого, он совершил почти невозможное, он
сотворил подвиг.
Победителей не судят.
Но не судят и побежденных, как Мациевич.
И не судят подвижников.
А разве не подвижничество 190 репетиций?!
Разве не подвижничество вынести на плечах двадцать картин
тяжелейшего гнета карамазовщины?!
Разве не подвижничество сознавать, что вся работа может погибнуть
прахом?!
Ведь до 186-й репетиции у труппы было святое
недовольство собой, переходящее порой в тягостнейшее до боли, до истерики
сомнение.
И только на 186-й репетиции радостно воскликнули все:
— Свершилось!
Разве не подвижничество отказаться от тех самых декораций,
которым так поклонялся театр?
Разве не подвижничество выучить почти наизусть роман
Достоевского, в котором тысяча двести страниц?!
А вы поговорите-ка с любым артистом, — каждый целыми
десятками, сотнями страниц богат.
Разве не подвижничество, презрев рутину, пригласить
древнегреческий хор, — чтеца?
И разве не подвижничество ждать от публики подвижничества,
верить в подвижничество москвичей?
Ведь если поставить — подвиг, то и прослушать —
подвиг и критиковать — подвиг.
Если поставили не сразу, а с 190 раз, то и
критиковать нельзя сразу.
3
А печать московская стала критиковать с полраза.
Да, прослушав только полдела, только один первый вечер!
Кто имеет право судить о пьесе, прослушав лишь половину ее?
Как имели право воскликнуть:
— Отрывки бестолково нагромождены. Нет нарастания фабулы.
А разве второй вечер, начиная «Мокрым» и кончая «Судом», не
сплошное нарастание.
— Пусть подвиг! Но это бесцельный подвиг!
Как бесцельный!
В мир брошена такая новая ценность, как «Мокрое» —
полуторачасовой акт, с таким богатейшим содержанием, с такой сменою настроений,
с такою инфернальностью, которым не найдешь равного!
Брошен «Кошмар» с небывалою демонстрацию раздвоения
личности, с небывалою проповедью ницшеанства, с небывалым сценическим эффектом
монодиалога, с таким вызовом и надрывом!
А «Суд»…
А «Бесенок»…
А «Мочалка»…
А «Сладострастники»…
А «Смердяков»…
4
Подвиг, громадный подвиг совершил Художественный театр.
К этому подвигу Вл. Ив. Немирович-Данченко готовился
несколько лет, — вынашивал в голове и в сердце «Карамазовых».
К этому подвигу вся труппа подошла через 190 репетиций!
190 репетиций! — Какая затрата времени, труда,
воли, веры, надежды, любви!
Значит, очень не ладилось, если 190.
Значит, очень хотелось, если 190.
Хотелось до боли, до муки, до фанатизма.
Сам Вл. Ив. Немирович-Данченко смотрел на
инсценировку «Карамазовых», как на подвиг.
— Я как бы носил благословение публики на этот подвиг. Я
знал, что публика ждет от нас подвига. И вот — подвиг налицо, мы
преодолели непреодолимейшие трудности инсценирования романа. А трудностей было
бесконечно много. Во-первых, мы не знали, считать ли публику знакомой с
«Братьями Карамазовыми» или не знакомой. Если публика знает роман, можно с
чистым сердцем опускать многие сцены, не поддающиеся инсценировке. Если публика
романа не знает, пришлось бы перегрузить спектакль, чтобы охватить, по
возможности, всю фабулу романа. Мы решили, что публика знает, что должна знать,
не может не знать романа, и потому нам нечего бояться за несвязность,
отрывочность отдельных сцен. И все-таки, хотя мы решили так в глубине души,
старались, как могли быть яснее и для невежественного слушателя. Мы проверяли
себя. Брали на репетиции человека, вовсе не читавшего «Карамазовых», и
спрашивали его, ясна ли ему фабула. Оказалось, что отрывки нами 7 выбраны
настолько удачно, что фабула выясняется из них вполне. К трудностям выбора
отрывков прибавлялись всюду цензурные трудности. Роман Достоевского —
трагедия души, потерявшей Бога или никогда его не имевшей. Послушный слову
Божьему, послушник Алеша, бродит среди растерянных людей. Среди
сладострастников-богохулов, как Федор Павлович Карамазов, — он никогда не
имел в душе Бога и умирает, как зверь. Среди бесноватых, как Митя и Грушенька, —
их души готовы к восприятию Бога, но временно отдались бесу. Среди отрицателей
Бога и созидателей себе нового бога, как предтеча Ницше, Иван Карамазов. Среди
униженных и оскорбленных Смердяковых, Снегиревых. Среди истеричек, как Lise, Екатерина Ивановна…
Искание Бога, религиозная совесть, — вот центр тяжести романа. А мы по
цензурным соображениям не могли его коснуться так, как хотелось бы. Пришлось
выпустить всю монастырскую часть… Только два посыла Алеши после больших хлопот
и то в чтении чтеца разрешены нам; посыл о. Зосимой в мир:
— В горе счастие узришь.
И посыл о. Паисием, после смерти Зосимы. Цензурные
условия не давали нам также возможности вывести на сцену уголовный суд.
Пришлось обратиться к министру юстиции за специальным разрешением. Министр
разрешил с условием, чтобы не было председателя. Председателя мы заменили, так
же, как и Зосиму и Паисия, чтецом. Идем дальше. Затем нам встретились
непреодолимые технический препятствия. Например, мы не смогли поставить
эпилог — речь Алеши после похорон Илюши. Не нашлось талантливых детей,
которые смогли бы тут играть. Мы долго не решались инсценировать главу «Кошмар
Ивана Федоровича и черт». Качалов взял на себя эту труднейшую, если не
невозможнейшую задачу. Главы мы брали целиком. Купюры делали самые необходимые.
Стремились к простоте переживаний до того, что боязнь всевозможных трений
довела нас до полного упразднения декораций. Все картины идут на безразличном
фоне. Только красочные пятна бутафории занимали художников-декораторов. Мы
работали самоотверженно, — было 190 репетиций! Если нам попытка
удалась, мы будем радоваться вместе с публикой, а если не удалась, —
спокойно смотреть на публику: — Мы сделали все, что могли.
5
И пусть артисты Художественного театра спокойно смотрят на
нападки прессы.
Еще не успели разобраться, как в Скрябинской симфонии нельзя
с одного раза разобраться.
Слишком много дано, от того Карамазовская симфония и кажется
перегруженной.
Как Скрябинская, она вся состоит из диссонансов и истерики.
И как в Скрябинской симфонии в ней много новизны, красоты и
значения.
И имеющий уши слышит.
Не бесплоден подвиг Художественного театра.
В историю русского театра он запишется крупными буквами.
И мне хочется поделиться теми впечатлениями и мыслями,
которые родились у меня после того, как я три раза подряд прослушал «Братьев
Карамазовых».
8 КОНТРОВЕРЗА
1
За столом обеденным Федор Павлович кушает десерт. У него
лицо сладострастника, нет кадыка, который в описании Достоевского, но зато на
лице «нос римлянина времен упадка», которым так гордился Федор Павлович.
И весь он — времен упадка.
Он сладострастничает и когда смакует изюм, сладострастничает
и когда кощунствует, сладострастничает садическим сладострастием и когда
вспоминает о матери Алеши.
Иван Федорович, молчаливо насупившись, сидит слева. Сидит
скрытый.
Еще не знают какой. Бросил несколько полукоротких фраз. И
интригует, — какой-то сын у этого сладострастника.
У двери — Смердяков.
За стулом Федора Павловича — Григорий.
В это время и вошел послушник Алеша.
Его вере волей-неволей приходится столкнуться с безверием и
изуверством окружающих, и он с удивительной терпимостью и кротостью переносит
все.
И в этой наивности, в этой терпеливой терпимости есть тоже
что-то страдальческое и сладострастное, — садически сладострастное.
Григорий только что рассказывал известие о солдате, попавшем
в плен к азиатам и не пожелавшем отречься от веры христианской, за что нехристи
содрали с него живьем кожу. И этот жуткий рассказ сразу вводит слушателя в
самую гущу карамазовщины — дает настроение.
Над трупом солдата с обнаженными нервами богохульно глумится
Федор Павлович:
— Снятую кожу солдата следовало бы препроводить в монастырь!
То-то народу повалит и денег!
Над трупом мученика изрекает свой холопский суд
Смердяков — отрицает подвиг.
— Не было бы греха и отказаться при этой случайности от
Христова, примерно, имени и от собственного крещения своего, чтобы спасти тем
самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие.
И своим в одно и то же время раболепным и высокомерным
липким языком он говорит о своем смердяковьем боге, о своем смердяковьем
бессмертии.
Заговорил под кощунственное глумление Федора Павловича,
который, глумясь, явно сладострастничал под ругань старика Григория, у которого
ругань заменяет аргументы.
2
… «Русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда
утверждал. Мужик наш — мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что
дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса —
пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали с
большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру
мерится, в ту же и возмерится, или как это там… Одним словом — возмерится.
А Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию… то
есть не Россию, а все эти пороки… а пожалуй что и Россию. Tout cela c’est de la cochonnerie. Знаешь,
что люблю? Я люблю остроумие».
— Вы опять рюмку выпили? Довольно бы вам.
— Подожди, я еще одну и еще одну, а так и покончу. Нет, постой, ты
меня перебил. В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: «Мы оченно,
говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть и пороть даем все парням.
После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно
самим девкам, говорит, “у нас повадно”». Каковы маркизы де-Сады, а? А как
хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не
стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про Мокрых
девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. 9 Меня, брат, зло берет.
Ведь коли Бог есть, — существует, — ну, конечно, я тогда виноват и
отвечу, а коли нет Его вовсе-то, так ли их еще надо твоих отцов-то? Ведь с них
мало тогда головы срезать, потому что они развитее задерживают. Веришь ты,
Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по
твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не
всего только шут?
— Верю, что не всего только шут.
— И верю что веришь, и искренно говоришь. Искренно смотришь и
искренно говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен… А все-таки я бы с твоим
монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле
и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золота
сколько бы на монетный двор поступило!
— Да зачем упразднять? — сказал Иван.
— А чтоб истина скорей воссияла, вот зачем.
— Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала
ограбят, а потом… упразднят.
— Ба! А ведь пожалуй ты прав. Ах я ослица, — вскинулся вдруг
Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. — Ну, так пусть стоит твой
монастырек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть да
коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть
непременно нарочно так устроено? Иван, говори: есть Бог или нет? Стой: наверно
говори, серьезно говори! Чего опять смеешься?
— Смеюсь я тому, как вы сами давеча остроумно заметили о вере
Смердякова в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать.
— Так разве теперь похоже?
— Очень.
— Ну так значит и я русский человек, и у меня русская черта, и
тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь
поймаю? Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. А все-таки говори: есть Бог
или нет? Только серьезно! Мне надо теперь серьезно.
— Нет, нету Бога.
— Алешка, есть Бог?
— Есть Бог.
— Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну хоть маленькое,
малюсенькое?
— Нет и бессмертия.
— Никакого?
— Никакого.
— То есть совершеннейший нуль или нечто. Может быть нечто
какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто!
— Совершенный нуль.
— Алешка, есть бессмертие?
— Есть.
— И Бог и бессмертие?
— И Бог и бессмертие. В Боге и бессмертие.
— Гм… Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том,
сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту, и это
столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком? Иван? В последний
раз и решительно: есть Бог или нет? Я в последний раз!
— И в последний раз нет.
— Кто же смеется над людьми, Иван?
— Черт должно быть, — усмехнулся Иван Федорович.
— А черт есть?
— Нет, и черта нет.
— Жаль. Черт возьми, что бы я после того сделал с тем, кто первый
выдумал Бога! Повесить его мало на горькой осине.
— Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога.
— Не было бы? Это без Бога-то?
— Да. И коньячку бы не было.
Мир бы был.
А вот коньячку бы не было.
3
«Эх вы ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня… даже во
всю мою жизнь не было безобразной женщины, — вот мое правило! Можете вы
это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко
течет, — не вылупились. По моему правилу во всякой женщине можно найти
чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не
найдешь; — только надобно уметь находить, — вот где штука! Это
талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это
одно половина всего… да где вам это понять! Даже вьельфильки — и в тех
иногда отыщешь такое, что только диву дашься на прочих дураков, как это ей
состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо
сперва-наперво удивить — вот как надо за нее браться. А ты не знал?
Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку,
как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да
баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка и всегда ее господин, а
ведь того только и надо для счастья жизни! Постой… слушай, Алешка, я твою мать
покойницу 10 всегда удивлял только в
другом, выходило, роде. Никогда бывало ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то
наступит, — вдруг перед нею так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю,
ножки целую и доведу ее всегда, всегда, — помню это, как вот
сейчас, — до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, не
громкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у
ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнет, и
что смешок этот теперешний, маленький, никакого восторга не означает, ну да
ведь хоть и обман, да восторг. Вот оно чтó значит свою черточку во всем
уметь находить!»
И тут вот с Алешей сделалась истерика.
— Федор Павлович. Иван, Иван! Скорей ему
воды. Это как она, точь-в-точь как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо
рта водой, я так с той делал. Это он за мать свою, за мать свою, —
бормотал он Ивану.
— Иван (с неудержимым гневным презрением).
Да ведь и моя, я думаю, мать, его мать была! Как вы полагаете?
— Федор Павлович. Как так твоя мать? Ты за
что это? Ты про какую мать… да разве она… Ах черт! Да ведь она и твоя! Ах черт!
Ну это, брат, затмение как никогда, извини, а я думал Иван… Хе-хе-хе! (Длинная,
пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. В сенях страшный шум и
гром, послышались неистовые крики. Дверь распахнулась, и в залу влетел Дмитрий
Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге.) Убьет, убьет! Не давай меня,
не давай!
Дмитрий. (За ним Григорий и Смердяков.
Ворвавшись в залу, на минуту остановился, чтоб осмотреться. Григорий обежал стол,
затворил на обе половинки противоположные входным двери залы, ведшие во
внутренние покои, и стал перед затворенною дверью, раздвинув обе руки крестом,
и готовый защищать вход так сказать до последней капли).
— Значит она там! Ее спрятали там! Прочь, подлец! (Он рванул
было Григория, но тот оттолкнул его. Вне себя от ярости Дмитрий размахнулся и
изо всей силы ударил Григория. Старик рухнулся, как подкошенный, а Дмитрий,
перескочив через него, вломился в дверь. Смердяков остался в зале, на другом
конце, бледный и дрожащий, тесно прижимаясь к Федору Павловичу.)
— Она здесь, — я сейчас сам видел, как она повернула к дому,
только я не догнал. Где она? Где она?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
4
Вот с чего началась цепь иллюстраций…
Сразу захватило душу…
И этот солдат с обнаженными кровоточащими нервами…
И этот разговор о Боге за коньячком… Много в нем цензура
выкинула, ну а все же…
И эта лекция сладострастника-отца сыновьям.
И эта истерика Алеши…
И этот исступленный крик Дмитрия…
Карамазовщина, карамазовщина, карамазовщина…
Говорят:
— Нет нарастания!
Да ведь сразу наросло, сразу захватило, сразу выросло в
мрачную кошмарную стену. И стоит, и давит, и душит. Говорят:
— Нет движения!
Зритель едва успевает следить за изгибами и сменами
настроений.
Слишком много движения, — конечно не в смысл беготни и
перемены места.
А движения драматического.
Говорят:
— Нет Достоевского!
А кто же это сжал сердце и томит истеричным надрывом, кто
вошел во святая-святых, грешная-грешных вашей души и показал вам куски
карамазовщины, которой вы там и не подозревали?
ДВА НАДРЫВА
Как ни пристрастно отнеслись газеты к первому карамазовскому
вечеру, они все же не смогли не остановиться на изумительно проведенных
Москвиным сценах «Надрыв в избе», «И на чистом воздухе».
На этих главах романа всего нагляднее можно показать, как
легко он инсценируется.
Возьму, например, первую часть — «Надрыв в избе», и не
изменяя, не пропуская ни одного слова, превращаю рассказ в драматическое
произведение.
Это так легко.
Ведь он весь в диалогах!
МОЧАЛКА
(Надрыв
в избе)
(Действующие лица).
Снегирев — господин лет сорока пяти,
невысокого роста, сухощавый, слабого сложения, рыжеватый, с рыженькой редкой
бороденкой, весьма похожей на растрепанную мочалку. Одет в темное, весьма
плохое нанковое пальто, заношенное и в пятнах. Панталоны чрезвычайно светлые,
такие, что никто давно и не носит, клетчатые и из очень тоненькой материи,
смятые снизу и сбившиеся оттого наверх, точно из них как маленький мальчик
вырос.
Арина Петровна — его жена. Одета в
ситцевое платье. Очень худа лицом, желтая, впалые болезненные щеки. Взгляд
чрезвычайно надменный и выразительный.
Варвара — старшая дочь Снегирева.
Некрасивое лицо, с рыженькими жиденькими волосами. Одета бедно, но опрятно.
Нина — младшая дочь Снегирева —
девушка лет двадцати, горбатая, с отсохшими ногами. Замечательно прекрасные
добрые глаза.
Алеша.
11
Сцена представляет избу, довольно просторную, но чрезвычайно
загроможденную всяким домашним скарбом. Налево большая русская печь. От печи к
левому окну чрез всю комнату протянута веревка, на которой развешено разное
тряпье. По обеим стенам налево и направо две кровати, покрытых вязаными
одеялами. На одной из них, на левой, горка из четырех ситцевых подушек, одна
другой меньше. В переднем углу на другой кровати справа лишь одна очень
маленькая подушечка, большое место, отгороженное простыней, тоже перекинутою
чрез веревку, протянутую поперек угла. За этою занавеской с боку устроенная на
лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный
четырехугольный мужицкий стол отодвинут из переднего угла к серединному окошку.
Все три окна, каждое в четыре мелкие зеленые, заплесневевшие стекла, очень
тусклы и наглухо заперты. На столе сковородка с остатками глазной яичницы,
недоеденный ломоть хлеба и полуштоф. Арина Петровна на стуле возле левой
кровати. Подле нее у левого окошка Варвара. Направо, тоже у постели, Нина.
Снегирев за столом, кончает яичницу. В дверь постучались.
Снегирев (усиленно сердито). —
Кто такое! (Алеша входит.) Кто такое!
— Варвара (громко). Монах на монастырь
просит, знал, к кому прийти!
Снегирев (повернулся к ней на каблуках и
взволнованным срывающимся каким-то голосом). Нет-с, Варвара Николавна, это
не то-с, не угадали-с! Позвольте спросить в свою очередь (опять повернулся к
Алеше), что побудило вас-с посетить… эти недра-с?
Алеша. — Я… Алексей Карамазов…
Снегирев. — Отменно умею понимать-с.
Штабс я капитан-с Снегирев-с, в свою очередь, но все же желательно узнать, что
именно побудило…
Алеша. Да я так только зашел. Мне в сущности
от себя хотелось бы вам сказать одно слово… Если только позволите…
Снегирев. В таком случае вот и стул-с, извольте
взять место-с. Это в древних комедиях говорили: «извольте взять место»… (быстрым
жестом схватил порожний стул и поставил его чуть посредине комнаты; затем,
схватив другой такой же стул для себя, сел напротив Алеши, по-прежнему к нему в
упор и так, что колени их почти соприкасались вместе). Николай Ильич
Снегирев-с, русской пехоты бывший штабс-капитан-с, хоть и посрамленный своими
пороками, но все же штабс-капитан. Скорее бы надо сказать: штабс-капитан
Словоерсов, а не Снегирев, ибо лишь со второй половины жизни стал говорить
словоерсами. Слово-ер-с приобретается в унижении.
Алеша. Это так точно, — усмехнулся
Алеша, — только невольно приобретается или нарочно?
Снегирев. Видит Бог, невольно. Все не
говорил, целую жизнь не говорил словоерсами, вдруг упал и встал с словоерсами.
Это делается высшею силой. Вижу, что интересуетесь современными вопросами. Чем,
однако, мог возбудить столь любопытства, ибо живу в обстановке невозможной для
гостеприимства.
Алеша. Я пришел… по тому самому делу…
Снегирев (нетерпеливо). По тому самому
делу?
Алеша. По поводу той встречи вашей с братом
моим Дмитрием Федоровичем.
Снегирев. Какой же это встречи-с? Это уж не
той ли самой-с? Значит насчет мочалки, банной мочалки? (надвинулся так, что
положительно стукнулся коленками в Алешу. Губы его как-то особенно сжались в
ниточку).
Алеша. Какая это мочалка?
Илюша. Это он на меня тебе, папа, жаловаться
пришел! Это я ему давеча палец укусил! (Занавеска отдернулась, и Алеша
увидел давешнего врага своего в углу, под образами, на прилаженной на лавке и
на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим пальтишком и еще стареньким
ватным одеяльцем. Очевидно был нездоров и, судя по горящим глазам, в
лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу).
Снегирев. Какой такой палец укусил? (Привскочил
со стула.) Это вам он палец укусил-с?
Алеша. Да, мне. Давеча он на улице с
мальчиками камнями перебрасывался; они в него шестеро кидают, а он один. Я
подошел к нему, а он и в меня камень бросил, потом другой мне в голову. Я
спросил: что я ему сделал? Он вдруг бросился и больно укусил мне палец, не знаю
за что.
Снегирев. Сейчас высеку-с! Сею минутой высеку-с!
(вскочил со стула).
Алеша. Да я ведь вовсе не жалуюсь, я только
рассказал… — Я вовсе не хочу, чтобы вы его высекли. Да он кажется теперь и
болен…
Снегирев. А вы думали я высеку-с? Что я
Илюшечку возьму да сейчас и высеку пред вами для вашего полного удовлетворения?
Скоро вам это надо-с? (Вдруг, повернувшись к Алеше с таким жестом, как будто
хотел на него броситься). Жалею, сударь, о вашем пальчике, 12 но не хотите ли я, прежде
чем Илюшечку сечь, свои четыре пальца, сейчас же на ваших глазах, для вашего
справедливого удовлетворения, вот этим самым ножом оттяпаю? Четырех-то пальцев,
я думаю, вам будет довольно-с, для утоления жажды мщения-с, пятого не
потребуете?.. (Остановился и как бы задохся. Каждая черточка на его лице
ходила и дергалась, глядел же с чрезвычайным вызовом, в исступлении.)
Алеша (тихо и грустно). Я кажется
теперь все понял. Значит ваш мальчик — добрый мальчик, любит отца и
бросился на меня как на брата вашего обидчика… Это я теперь понимаю. Но брат
мой Дмитрий Федорович раскаивается в своем поступке, я знаю это, и если только
ему возможно будет прийти к вам или всего лучше свидеться с вами опять в том
самом месте, то он попросит у вас при всех прощения… если вы пожелаете.
Снегирев. То есть вырвал бороденку и попросил
извинения… Все дескать закончил и удовлетворил, так ли-с?
Алеша. О нет, напротив, он сделает все, что
вам будет угодно и как вам будет угодно!
Снегирев. Так что если б я попросил его
светлость стать на колонки предо мной в этом самом трактире-с, «Столичный
город» — ему наименование, или на площади-с, так он и стал бы?
Алеша. Да, он станет и на колени.
Снегирев. Пронзили-с. Прослезили меня и
пронзили-с. Слишком наклонен чувствовать. Позвольте же отрекомендоваться
вполне: моя семья, мои две дочери и мой сын, — мой помет-с. Умру я, кто-то
их возлюбит-с? А пока живу я, кто-то меня, скверненького, кроме них возлюбит?
Великое это дело устроил Господь для каждого человека в моем роде-с. Ибо
надобно, чтоб и человека в моем роде мог хоть кто-нибудь возлюбить-с…
Алеша. Ах, это совершенная правда! —
воскликнул Алеша.
Варвара (брезгливо, презрительно). Да
полноте, наконец, паясничать, какой-нибудь дурак придет, а вы срамите!
Снегирев (крикнул на нее хотя и
повелительно, но одобрительно). Повремените немного, Варвара Николавна,
позвольте выдержать направление. Это уж у нас, такой характер-с (повернулся
опять к Алеше).
«И ничего во всей природе
Благословить он не хотел».
То есть надо бы в женском роде:
благословить она не хотела-с. Но позвольте вас представить и моей супруге. Вот-с
Арина Петровна, дама без ног-с, лет сорока трех, ноги ходят, да немножко-с. Из
простых-с. Арина Петровна, разгладьте черты ваши: вот Алексей Федорович
Карамазов. Встаньте, Алексей Федорович (взял его за руку и с силой, которой
даже нельзя было ожидать от него, вдруг его приподнял). Вы даме
представляетесь, надо встать-с. Не тот-с Карамазов, маменька, который… гм… и
так далее, а брат его, блистающий смиренными добродетелями. Позвольте, Арина
Петровна, позвольте, маменька, позвольте вашу ручку предварительно поцеловать. (Он
почтительно, нежно даже поцеловал у Арины Петровны ручку. Варвара с
негодованием повернулась к сцене спиной.)
Арина Петровна (необыкновенно ласково).
Здравствуйте, садитесь, г. Черномазов!
Снегирев. Карамазов, маменька, Карамазов. (Алеше).
Мы из простых-с!
Арина Петровна. Ну Карамазов или как там, а я
всегда Черномазов… Садитесь же, и зачем он вас поднял? Дама без ног, он говорит;
ноги-то есть, да распухли, как ведра, а сама я высохла. Прежде-то я куды была
толстая, а теперь вон словно иглу проглотила…
Снегирев. Мы из простых-с, из простых-с.
Нина. Папа, ах, папа! (вдруг закрыла глаза
платком).
Варвара. Шут!
Арина Петровна. Видите у нас какие известия (расставила
руки, указывая на дочерей), точно облака идут; пройдут облака и опять наша
музыка. Прежде, когда мы военными были, к нам много приходило таких гостей. Я,
батюшка, это к делу не приравниваю. Кто любит кого, тот и люби того. Дьяконица
тогда приходит и говорит: — «Александр Александрович превосходнейшей души
человек, а Настасья, говорит, Петровна это исчадье ада», — Ну, отвечаю,
это как кто кого обожает, а ты и мала куча да вонюча. — «А тебя, говорит,
надо в повиновении держать». — Ах ты, черная ты, говорю ей, шпага, ну и
кого ты учить пришла? — «Я, говорит она, воздух чистый впускаю, а ты
нечистый». — А спроси, отвечаю ей, всех господ офицеров, нечистый ли во
мне воздух али другой какой? И так это у меня с того самого времени на душе
сидит, что намеднись сижу я вот здесь как теперь и вижу, тот самый генерал
вошел, что на Святую сюда приезжал: что, говорю ему, ваше превосходительство,
можно ли благородной даме воздух свободный впускать? — «Да, отвечает, надо
бы у вас форточку али дверь отворить, потому самому что у вас воздух несвежий».
Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. Я,
говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду. Батюшки, голубчики,
не попрекайте мать родную! Николай Ильич, батюшка, я ль тебе не угодила, только
ведь у меня и есть что Илюшечка из класса придет и любит. Вчера яблочко принес.
Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, простите меня совсем
одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал! (Вдруг разрыдалась, слезы
брызнули ручьем.)
Снегирев (стремительно подскочил к ней).
Маменька, маменька, голубчик, полно, полно! Не одинокая ты. Все-то тебя любят,
все обожают! (Начал целовать у нее обе руки и нежно гладить по ее лицу
своими ладонями; схватил салфетку, начал обтирать с лица ее слезы.) Ну-с,
видели-с? Слышали-с?
Алеша. Вижу и слышу.
Илюша. Папа, папа! Неужели ты с ним… Брось ты
его, папа!
Варвара (обозленно). Да полноте вы,
наконец, паясничать, ваши выверты глупые показывать, которые ни к чему никогда
не ведут!.. (Топнула ногой.)
Снегирев. Совершенно справедливо на этот раз
изволите из себя выходить, Варвара Николавна, и я вас стремительно удовлетворю.
Шапочку вашу наденьте, Алексей Федорович, а я вот картуз возьму — и
пойдемте-с. Надобно вам одно серьезное словечко сказать, только вне этих стен.
Эта вот сидящая девица — это дочка моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам
ее представить, — ангел Божий во плоти… к смертным слетевший… если можете
только это понять…
Варвара (с негодованьем). Весь ведь
так и сотрясается, словно судорогой его сводит.
Снегирев. А эта вот, что теперь на меня
ножкой топает и паясом меня давеча обличила, — это тоже ангел Божий во
плоти-с, и справедливо меня обозвала-с. Пойдемте же, Алексей Федорович,
покончить надо-с… (Уходят).
Вот и вся сценка.
Но мог ли какой-нибудь драматург с большей силой и
экспрессией обрисовать психологию всей семьи Снегиревых?
Мог ли ярче вырисоваться сам отставной штабс-капитан с его
унижением паче гордости, с его трагическим паясничеством, с его сладострастными
садическими вывертами?..
13
Да, он сладострастничает, как и Федор Павлович, как и Lise, как и Алеша,
быть может и Алеша сладострастничает в своем непротивлении злу, невозмущении
злом, — не даром в «Исповеди горячего сердца», поняв и простив Дмитрия,
воскликнул: «Катерина Ивановна все поймет!»
Тут в маленькой сценке Снегирев встал во весь рост, а в
следующей — «Надрыв на чистом воздухе», — которую инсценировать еще
легче, потому что она вся — сплошной диалог, Москвин достигает небывалых
трагических высот.
Трагический шут — не новый гость на театральных
подмостках.
Но такая разновидность трагического, оскорбленно-цинического
юродства, как Москвин-Снегирев, — великолепное создание Художественного
театра. Прослушайте, как он рассказывает «На чистом воздухе» трагедию детской
души.
Снегирев. Как не узнать, что у вас до меня
дело-с? Без дела-то вы бы никогда ко мне и не заглянули. Али в самом деле
только жаловаться на мальчика приходили-с? Так ведь это невероятно-с. А кстати
о мальчике-с: я вам там всего изъяснить не мог-с, а здесь теперь сцену эту вам
опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гуще-с, еще всего неделю назад, — я
про бороденку мою говорю-с; это ведь бороденку мою мочалкой прозвали, школьники
главное-с. Ну-с, вот-с, тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою
бороденку, вытянул из трактира на площадь, а как раз школьники из школы
выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком виде-с — бросился ко
мне: «Папа, кричит, папа!» Хватается за меня, обнимает меня, хочет меня
вырвать, кричит моему обидчику: «Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите
его», — так ведь и кричит: «простите», рученками-то тоже схватил да
руку-то ему, эту самую-то руку его, и целует-с… Помню я в ту минуту, какое у
него было личико-с, не забыл-с и не забуду-с!..
Алеша. Клянусь, брат вам самым искренним
образом, самым полным, выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой
площади… Я заставлю его, иначе он мне не брат!
Снегирев. Ага, так это еще в прожекте
находится. Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит
пылкого-с. Так бы и сказали-с. Нет, уж в таком случае позвольте мне и о
высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, ибо он
его тогда выразил-с. Кончил он это меня за мочалку тащить, пустил на волю-с:
«Ты, говорит, офицер и я офицер, — если можешь найти секунданта,
порядочного человека, то присылай — дам удовлетворение, хотя бы ты и
мерзавец!» Вот что сказал-с. Воистину рыцарский дух! Удалились мы тогда с
Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной
отпечатлелась. Нет уж, где нам с дворянами оставаться-то. Да и посудите сами-с,
изволили сами быть сейчас у меня в хоромах, — что видели-с? Три дамы сидят-с,
одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком
уж умная, курсистка-с, в Петербург снова рвется, там на берегах Невы права
женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорю-с, всего девять лет-с, один как
перст, ибо умри я — и что со всеми этими недрами станется, я только про
это одно вас спрошу-с? А если так, то вызови я его на дуэль, а ну как он меня
тотчас же и убьет, ну что же тогда? С ними-то тогда со всеми что станется-с?
Еще хуже того, если он не убьет-с, а лишь только меня искалечит: работать
нельзя, а рот-то все-таки остается, кто ж его накормит тогда, мой рот, и кто ж
их-то всех тогда накормит-с? Аль Илюшу, вместо школы, милостыню просить
высылать ежедневно? Так вот что оно для меня значит-с на дуэль-то его вызвать-с.
Глупое это слово-с и больше ничего-с. А теперь позвольте спросить: больно он вам
пальчик давеча укусил, Илюша-то? В хоромах-то я при нем войти в сию подробность
не решился.
Алеша. Да, очень больно, и он очень был
раздражен. Он мне как Карамазову за вас отомстил, мне это ясно теперь. Но если
бы вы видели, как он с товарищами-школьниками камнями перекидывался? Это очень
опасно: они могут его убить, они дети, глупы, камень летит и может голову
проломить.
Снегирев. Да уж и попало-с, не в голову, так
в грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с; пришел, плачет,
охает, а вот и заболел.
Алеша. И знаете, ведь он там сам первый и
нападает на всех, он озлился за вас; они говорят, что он одному мальчику,
Красоткину, давеча в бок перочинным ножиком пырнул…
Снегирев. Слышал и про это; опасно-с:
Красоткин, это — чиновник здешний, еще может быть хлопоты выйдут-с…
Алеша (с жаром). Я бы вам советовал
некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется… и гнев этот в
нем пройдет…
14 Снегирев.
Гнев-с, именно гнев-с! В маленьком существа, а великий гнев-с. Вы этого всего
не знаете-с. Позвольте мне пояснить эту повесть особенно. Дело в том, что после
того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах
народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма
часто безжалостны. Начали они его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух.
Обыкновенный мальчик, слабый сын, — тот бы смирился, отца своего
застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истину-с, за
правду-с. Ибо что он тогда вынес, как вашему братцу руки целовал и кричал ему:
«Простите папочку, простите папочку», — то это только Бог один знает да я-с.
И вот так-то детки наши — то есть не ваши, а наши-с, детки презренных, но
благородных нищих-с, правду на земле еще в девять лет отроду узнают-с. Богатым
где: те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на
площади-то-с, как руки-то его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел-с.
Вошла в него эта истина-с и пришибла его навеки-с (как бы в исступлении
ударил правым кулаком в левую ладонь). В тот самый день он у меня в
лихорадке был-с, всю ночь бредил. Весь тот день мало со мной говорил, совсем
молчал даже, только заметил я: глядит, глядит на меня из угла, а все больше к
окну припадает и делает вид, будто бы уроки учит, а вижу я, что не уроки у него
на уме. На другой день я выпил-с и многого не помню-с, грешный человек, с горя-с.
Маменька тоже тут плакать начала-с, — маменьку-то я очень люблю-с, —
ну с горя и клюкнул, на последние-с. Вы, сударь, не презирайте меня: в России
пьяные люди у нас самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Лежу
это я и Илюшу в тот день не очень запомнил, а в тот-то именно день мальчишки и
подняли его на смех в школе с утра-с: «Мочалка, кричат ему, отца твоего за
мочалку из трактира тащили, а ты подле бежал и прощения просил». На третий это
день пришел он опять из школы, смотрю — лица на нем нет, побледнел. Что
ты, говорю? Молчит. Ну в хоромах-то нечего было разговаривать, а то сейчас
маменька и девицы участие примут, — девицы-то к тому же все уже узнали,
даже еще в первый день. Варвара-то Николавна уже стала ворчать: «Шуты, паяцы,
разве может у вас что разумное быть?» — Так точно говорю, Варвара
Николавна, разве может у нас что разумное быть? Тем на тот раз и отделался. Вот-с
к вечеру я и вывел мальчика погулять. А мы с ним, надо вам знать-с, каждый
вечер и допрежь того гулять выходили, ровно по тому самому пути, по которому с
вами теперь идем, от самой нашей калитки до вон того камня большущего, который
вон там на дороге сиротой лежит у плетня, и где выгон городской начинается:
место пустынное и прекрасное-с. Идем мы с Илюшей, ручка его в моей руке, по
обыкновению; махонькая у него ручка, пальчики тоненькие, холодненькие, —
грудкой ведь он у меня страдает. — «Папа, говорит, папа!» — Что,
говорю ему, — глазенки вижу у него сверкают. — «Папа, как он тебя
тогда, папа!» — Что делать, Илюша, говорю. — «Не мирись с ним, папа,
не мирись. Школьники говорят, что он тебе десять рублей за это дал». —
Нет, говорю, Илюша, я денег от него не возьму теперь ни за что. Так он и
затрясся весь, схватил мою руку в свои обе ручки, опять целует. — «Папа,
говорит, папа, вызови его на дуэль, в школе дразнят, что ты трус и не вызовешь
его на дуэль, а десять рублей у него возьмешь». — На дуэль, Илюша, мне
нельзя его вызвать, отвечаю я, и излагаю ему вкратце все то, что и вам на сей
счет сейчас изложил. Выслушал он: — «Папа, говорит, папа, все-таки не
мирись: я вырасту, я вызову его сам и убью его!» Глазенки-то сверкают и горят.
Ну, при всем том ведь я и отец, надобно ж было ему слово правды сказать:
грешно, говорю я ему, убивать хотя бы и на поединке. — «Папа, говорит,
папа, я его повалю, как большой буду, я ему саблю выбью своей саблей, брошусь
на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы тебя сейчас
убить, но прощаю тебя, вот тебе!» — Видите, видите, сударь, какой
процессик в головке-то его произошел в эти два дня, это он день и ночь об этом
именно мщении с саблей думал и ночью должно быть об этом бредил…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Назовите, где еще детское сердце со сцены театральной билось
бы так, чтобы биение его было слышно и в первом ряду партера, и вон там —
на галерее, и там, у вас в кабинете, в спальне, куда вы, потрясенный Москвиным
до глубины души, пришли, чтобы забыться.
А на вас смотрят большие, больные глаза прекраснодушного
злюки Илюши…
И голос трагической мочалки сквозь выверты и выкрутасы
юродивого показывает прекраснейшее и драгоценнейшее из того, что есть на
земле — любовь к ребенку.
ОБЕ ВМЕСТЕ
Быть может больше всего Достоевского в этой картине.
Ведь тут ни цензура, ни условия сцены не выкинули ни одного
слова романа.
Алеша в гостиной Катерины Ивановны.
Он рассказывает ей, как Дмитрий послал его к Катерине
Ивановне «кланяться»…
Алеша (помолчав, тихо прибавил). Он
пошел к этой женщине…
Катерина Ивановна (нервно рассмеялась). —
А вы думаете, что я эту женщину не перенесу? Но он на ней не женится —
разве Карамазов может гореть такою страстью вечно? Это страсть, а не любовь. Он
не женится потому, что она и не выйдет за него… (Опять странно усмехнулась.)
Алеша (грустно потупя глаза). Он,
может быть, женится…
Катерина Ивановна (с необыкновенным
жаром.) Он не женится, говорят вам! Это — девушка, это — ангел,
знаете ли это? Знаете вы это? Это — самое фантастическое из фантастических
созданий! Я знаю, как она обольстительна, 15 но я знаю, как она и добра, тверда и
благородна. Чего вы смотрите на меня так, Александр Федорович? Может быть,
удивляетесь моим словам, может быть, не верите мне? (Крикнула в соседнюю
комнату). Аграфена Александровна, ангел мой! Подите к нам, это Алеша, он
про наши дела все знает… Покажитесь ему.
Грушенька (входит, говорит нежно,
несколько даже слащаво). А я только и ждала за занавеской, что вы позовете…
К. И. (усаживая ее против Алеши и с
восторгом целуя несколько раз в смеющиеся губки). Мы не в первый раз
видимся, Алексей Федорович. Я захотела узнать ее, увидать ее, я хотела идти к
ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней
все решим, все. Так сердце предчувствовало… Меня упрашивали оставить этот шаг,
но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все
свои намерения; она как ангел
добрый слетела сюда и принесла покой и радость…
Грушенька (нараспев с милою радостною
улыбкою). Не погнушались мной, милая, достойная барышня…
К. И. И не смейте говорить мне такие
слова, обаятельница, волшебница! Вами-то гнушаться! Вот нижнюю губку вашу еще
раз поцелую. Она у вас точно припухла, так вот. (Целует)… Посмотрите,
как она смеется, Алексей Федорович, сердце веселится, глядя на этого ангела.
Грушенька. Нежите вы меня, милая барышня, а
я, может, и вовсе не стою ласки вашей…
К. И. (с жаром). Не стоит! Она-то
не стоит! Знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы
своевольная, но гордое прегордое сердечко! Мы благородны, Алексей Федорович, мы
великодушны, знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы
были принести всякую жертву недостойному, может быть, легкомысленному человеку.
Был один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, — давно это
было, пять лет назад, а он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он
едет сюда — и знайте, что мы одного его, одного его только любили до сих
пор и любим вею жизнь! Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива, а все
пять лет эти она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться
ее благосклонностью! Один этот старик безногий, купец, — но он был скорей
нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в
муках, оставленную тем, кого мы так любили… да ведь она утопиться тогда хотела.
Ведь старик этот спас ее, спас ее…
Грушенька (протянула). Очень уж вы
защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете.
К. И. Защищаю? Да нам ли защищать, да
еще смеем ли мы тут защищать?.. Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку;
посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович,
видите ли вы ее? Она мне счастье принесла и воскресила меня, и я вот целовать
ее сейчас буду и сверху и в ладонку и вот, вот… (Целует как бы в упоении.)
Грушенька (протянув ручку, с нервным,
звонким прелестным смешком следит за нею. Ей, видимо, приятно, что ее ручку так
целуют). Не устыдите ведь меня, милая барышня, что ручку мою при Алексее
Федоровиче так целовали.
К. И. (удивленно). Да разве я вас
тем устыдить хотела? Ах, милая, как вы меня дурно понимаете!
Грушенька. Да вы-то меня, может, тоже не так
совсем понимаете, милая барышня, я, может, гораздо дурнее того, чем у вас на
виду. Я сердцем дурная, я своевольная. Я Дмитрия Федоровича бедного из-за
насмешки одной тогда заполонила.
К. И. Но ведь теперь вы же его и
спасете. Вы дали слово. Вы вразумите его, вы откроете ему, что любите другого,
давно, и который теперь вам руку свою предлагает…
Грушенька. Ах нет, я вам не давала такого
слова. Вы это сами мне все говорили, а я не давала.
К. И. (побледнев). Я вас не так
стало быть поняла… Вы обещали…
Грушенька (тихо, ровно, весело). Ах
нет, ангел барышня, ничего я вам не обещала. Вот и видно сейчас, достойная
барышня, какая я пред вами скверная и самовластная. Мне что захочется, так я
так и поступлю. Давеча я может вам и пообещала что, а вот сейчас опять думаю:
вдруг он опять мне понравится, Митя-то, — раз уж мне ведь он очень
понравился, целый час почти даже нравился. Вот я может быть пойду да и скажу
ему сейчас, чтоб он у меня с сего же дня остался… Вот я какая непостоянная…
К. И. (шепотом). Давеча вы
говорили… совсем не то…
Грушенька. Ах давеча! А ведь я сердцем
нежная, глупая. Ведь подумать только, что он из-за меня перенес! А вдруг домой
приду да и пожалею его — тогда что?
К. И. Я не ожидала…
Грушенька. Эх, барышня, какая вы предо мной
добрая, благородная выходите. Вот вы теперь, пожалуй, меня, этакую дуру, и
разлюбите за мой характер. Дайте мне вашу милую ручку, ангел-барышня (как бы
с благоговением взяла ручку Катерины Ивановны). Вот я, милая барышня, вашу
ручку возьму и так же, как вы мне, поцелую. Вы мне три раза поцеловали, а мне
бы вам надо триста раз за это поцеловать, чтобы сквитаться. Да так уж и быть, а
затем пусть как Бог пошлет, может, я вам полная раба буду 16 и во всем пожелаю вам рабски угодить.
Как Бог положит, пусть так оно и будет безо всяких между собой сговоров и
обещаний. Ручка-то, ручка-то у вас милая, ручка-то! Барышня вы милая,
раскрасавица вы моя невозможная! (Тихо понесла ручку к губам своим. Катерина
Ивановна не отняла руки: она с робкою надеждой напряженно смотрела ей в глаза:
она видела в этих глазах все то же простодушное доверчивое выражение, все ту же
ясную веселость… Грушенька меж тем как бы в восхищении от «милой ручки»
медленно поднимала ее к губам своим. Но у самых губ она вдруг ручку задержала
на два, на три мгновенья, как бы раздумывая о чем-то). А знаете что,
ангел-барышня (протянула самым нежным и слащавейшим голоском), знаете
что, возьму я, да вашу ручку и не поцелую. (Она засмеялась маленьким
развеселым смешком.)
К. И. (вздрогнув). Как хотите…
Что с вами?
Грушенька (сверкая глазами и пристально
глядя ей в лицо). А так и оставайтесь с тем на память, что вы-то у меня
ручку целовали, а я у вас нет.
К. И. Наглая! (Как бы вдруг что-то
поняв, вся вспыхнула и вскочила с места. Не спеша поднялась и Грушенька.)
Грушенька. Так я и Мите сейчас перескажу, как
вы мне целовали ручку, а я-то у вас совсем нет. А уж как он будет смеяться!
К. И. Мерзавка, вон!
Грушенька. Ах, как стыдно, барышня, ах как
стыдно! Это вам даже и непристойно совсем, такие слова, милая барышня.
К. И. (дрожа, с исказившимся лицом).
Вон, продажная тварь!
Грушенька. Ну уж и продажная. Сами вы девицей
к кавалерам за деньгами в сумерки хаживали, свою красоту продавать приносили,
ведь я же знаю.
К. И. (вскрикнула и бросилась было на
нее, но ее удержал всею силой Алеша).
Алеша. Ни шагу, ни слова! Не говорите, не
отвечайте ничего, она уйдет, сейчас уйдет! (В комнату вбежали обе
родственницы Катерины Ивановны и горничная. Все бросились к ней.)
Грушенька (подхватив с дивана мантилью).
Алеша, милый, проводи-ка меня!
Алеша (умоляюще). Уйдите, уйдите
поскорей!
Грушенька. Милый Алешенька, проводи! Я тебе
дорогой хорошенькое-хорошенькое одно словцо скажу! Я это для тебя, Алешенька,
сцену проделала. Проводи, голубчик, после понравится.
Алеша (отвернулся, ломая руки. Грушенька,
звонко смеясь, выбежала из дома. С Катериной Ивановной припадок. Все около нее
суетятся).
К. И. (кричит истерично). Это
тигр! Зачем вы удержали меня, Алексей Федорович, я бы избила ее, избила! (Не
в силах сдерживать себя.) Ее нужно плетью, на эшафоте, чрез палача, при народе!..
(Алеша попятился к дверям.) Но Боже! (Вскрикнула, всплеснув руками.)
Он-то! Он мог быть так бесчестен, так бесчеловечен! Ведь он рассказал этой
твари о том, что было там, в тогдашний роковой, вечно проклятый, проклятый
день! «Приходили красу продавать, милая барышня!» Она знает! Ваш брат подлец,
Алексей Федорович! Уходите, Алексей Федорович! Мне стыдно, мне ужасно! Завтра…
умоляю вас на коленях, придите завтра. Не осудите, простите, я не знаю, что с
собой еще сделаю! (Алеша вышел.)
Много ли найдется во всей русской драматической литературе
сцен более сценичных, чем это свидание двух любовниц!
Сколько движения, сколько переживаний, сколько содержания!
Правда, г-же Гзовской не подошла роль Катерины
Ивановны.
И роль эта очевидно ей не по душе.
Видна головная работа, а переживаний-то и нет.
Правда, г-же Германовой не совсем удалось воплотить в
себе «царицу инфернальниц», — значительно лучше она в «Мокром», — но
ведь и роль эта требует исключительных данных.
Мучительница-мученица…
Все эти пять лет мучит других, видит сама в этом мучении
садическое наслаждение.
И сама себя мучит любовью к «нему», к «нему»…
К кому?..
К тому, кого давно, давно не существует, к Прекрасному
Рыцарю, к мечте…
Ведь когда этот офицер приехал в Мокрое, Грушенька даже не
узнала в этом обрюзгшем, трагически пошлом полячишке:
— А и убирайся, откуда приехал! Велю сейчас прогнать и
прогонят! Дура, дура была я, что пять лет себя мучила! Да и не он это вовсе!
Разве он был такой? Это отец его какой-то. А где ты парик себе заказал?
Тот был сокол, а этот селезень. Тот смеялся и мне песни пел… А я-то, я-то пять
лет слезами заливалась, проклятая я дура, низкая я, бесстыжая…
И в другом месте, за пять минут до ареста Дмитрия, она
восклицает:
— Его ли я любила или злобу свою…
Вероятно «злобу свою», вернее, свои страдания, муку свою…
Мучительница-мученица!
Достоевский так силен в передаче душевных противоречий и так
сложен в своих героях.
Нет ни одного чисто положительного и ни одного чисто
отрицательного тона.
Все люди у него «скверные и хорошие», «хорошие и скверные»…
Дмитрий — благороднейший подлец. Грушенька —
мучительница-мученица. Снегирев — трагический комик. Илюша —
прекраснодушный злюка.
Иван — гениальный безумец (— разве не гениальны
его ницшеанские прозрения?)
И всех противоречивее, капризнее, больнее — Lise, этот
ангельский бесенок.
Воплощение этого типа — одна из блестящих побед
Художественного театра.
17 МОКРОЕ
1
На фоне визгливых кликушечьих песен деревенских девок, в
хаосе кошмарных, топочащихся на одном месте плясок, под стон инфернальной
оргии, с ее трагическим жутким весельем (сравните такую же жуткую оргию —
встречу Лейзера в «Анатеме») тоскует и томится содрогнувшаяся душа Дмитрия
Карамазова, человекоубийцы и вора, — и все-таки брата нашего.
Под коверканье русской речи ляхом Муссяловичем, под пошлость
отвратительных шулерских приемов, под всплески поруганных воспоминаний и
надежд, под все растущее опьянение тела, совершается трагический надрыв в душе
Грушеньки…
2
Но вот, как проклятый призрак, исчез, визгливый шабаш
деревенских девок.
Митя и Грушенька одни, в объятиях друг друга, на постели.
Он целует ее плечи, руки, грудь… Хочет опьяниться ее телом,
как она хотела опьяниться вином…
И оба лежат пьяные телом, пьяные вином, но трезвые духом.
Он повторяет:
— Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси эту страшную
чашу мимо меня! Ведь делал Ты те чудеса, Господи, для таких же грешников, как
я!
А она, она все со своим надрывом:
— Митя, Митя я ведь любила его! Так любила его все пять лет,
все, все это время. Его ли я любила или только злобу мою, а не его! Нет, его!
Ох, его! Я ведь лгу, что любила только злобу мою, а не его.
И когда, наконец, в его голосе промелькнуло: «Да пусть же,
пусть, что бы теперь ни случилось — за одну минуту весь мир отдам!»
И когда, наконец, охмелевшие от ласк и шампанского, они
забылись на миг, где-то истерическим лаем залаял колокольчик…
Вошел следователь и начался допрос…
3
Надо видеть сцену допроса, нужно слышать смену счастливо
найденных интонаций, нужно самому подивиться на внезапный слышный расцвет
дарования доселе скромного работника Леонидова…
Откуда ему сие! — вдохновение, восторг, откровение!
Ведь он же знает, что он убил не отца! Он убежден, что его
объяснения сейчас все объяснят, и спадет, рухнет чудовищное обвинение!
Но, по мере того как он объясняет, он все больше и больше
запутывается в гуще неопровержимых улик.
Он как муха на липкой бумажке. Чем больше бьется, тем крепче
пристает, тем неминуемее гибнет…
Ужас охватывает его душу!..
И этот ужас передается вам, и вы жалеете этого
человекоубийцу, вора, зверя и вместе с Грушенькой готовы крикнуть:
— Я знаю, ты хоть и зверь, а благородный!
И земной поклон, который отвешивает Мите она, не кажется
неожиданным…
4
. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . .
Ах, да разве то, что я рассказываю вам, похоже на то, что
происходит на сцене?
Я не знаю, я не могу, я бессилен… Я рассказываю своими,
шебуевскими, словами, и получилась мелодрама.
А ведь там, на сцене, все слова Достоевского.
А ведь там, на сцене, пляски, гам, кровать, раздевание.
. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . .
18 5
Смейтесь, что же вы не смеетесь? Разве не смешно поют и
пляшут девки? Где вы когда-нибудь на сцене видывали таких девок?
Визжит девка:
Барин девушек пытал,
Девки любят, али нет.
Другая еще большим визжит голосом:
Барин будет больно бить,
А я его не любить.
Первая:
Цыган девушек пытал,
Девки любят али нет…
Вторая:
Цыган будет воровать,
А я буду горевать…
Первая:
Солдат девушек пытал,
Девки любят али нет…
Вторая с презрением:
Солдат будет ранец несть,
А я за ним…
Смейтесь!
Ведь «тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый
совершенно откровенно и произведший фурор в слушавшей публике»…
Смейтесь!
Смейтесь: вон шулеров обличили…
Вон старикашка Максимов пошел в пляс за припевом:
Свинушка хрю-хрю, хрю-хрю…
Телочка му-му, му-му…
Уточка ква-ква, ква-ква…
Гусынька га-га, га-га…
Смейтесь!
Вон сама пошла, Грушенька, — царица
инфернальниц, — в пляс пошла…
А не может… Ноги пьяные…
Смейтесь над словами пьяной бабы:
— Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу,
добрые люди, ну и что же такое? Бог простит… Кабы Богом была, всех бы людей
простила: «милые мои грешнички, с этого дня прощаю всех». А я пойду прощенья
просить: «Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что…» «Зверь я, вот что…» А
молиться хочу… Я луковку подала… Злодейке такой, как я, молиться хочется! Митя
пусть пляшут, не мешай. Все люди на свете хороши, все до единого хороши на
свете. Хоть и скверные мы, а хороши на свете. Скверные мы и хорошие, и
скверные, и хорошие.
Что же вы не смеетесь, — у нее язык пьяный, — вот
что…
Смейтесь, вы, пакостники!
На сцене постель, — совсем как в фарсе…
На сцене голый человек…
Совсем голый, — следователь снял с Митеньки все, все,
до носков…
Вот он голый, — только одеяло на спину накинуто.
Что же вы не смеетесь!
Вам не смешно, а страшно… Вам жутко, зябко, душно…
Вы видите раздетого догола человека.
Не потому он голый, что следователь снял с него
окровавленные штаны и сорочку. А потому, что душу его раздели. Вот он стоит
голый, жуткий, зябкий… —
— Се человек!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
19 6
Вот какое впечатление производит «Мокрое» даже на тех
зрителей, которые до сих пор еще не читали «Братьев Карамазовых».
Чем достигнуто это…
Не все ли равно?
Идеальным ли распределением ролей. Безукоризненной ли
режиссурой…
Кем достигнуто это?
Не все ли равно…
Актерами ли, как Леонидов, Германова, Сушкевич…
Режиссером ли Лужским, который ставил эту сцену…
Немировичем-Данченко ли, который ее так любовно в сердце и
голове выносил? Не к чему придраться, ведь:
— Всяческая и во всех — Достоевский!
7
И тут газеты придираются:
«— Эх, парочку бы окон»!
«Так искренно формулировал свои впечатления от превосходно
поставленной картины в “Мокром” мой сосед по креслу».
Нашлось время у соседа-критика глядеть по окнам!
Правда, и я тоже против замены декораций безразличным фоном
бело-сероватого задника.
Во многих картинах «Карамазовых» досадливое чувство вызывает
эта бело-серая стена, в которую уткнулся режиссер.
Но не в «Мокром». В «Мокром» я, ей-Богу, не заметил, была ли
там парочка окон, не была ли…
Не до окон было…
Одной из крупнейших заслуг Художественного театра перед
русской драмой «Мокрое».
Режиссер в меру воспользовался всеми инструментами своего
режиссерского оркестра.
Не остановился перед дерзкими приемами, которые остановили
бы всякого другого:
Например, это раздевание догола.
И в результате совершилось чудо:
Роман претворился в драму.
Трагос облекся в плоть.
— Таинство воплощения.
20 КОШМАР
1
Тем критикам, которые высказались тотчас после первого
вечера «Карамазовых», не оставалось ничего иного, как настаивать на своем
мнении:
— Попытка не удалась!
Но все-таки всем приходится отступать перед очевидностью:
— Кошмар — великолепен! Это — разрешение новой
сценической проблемы!
Разве не смело, разве не красиво, разве не дерзко было
бросить публике такой вызов, какой бросил Качалов?
В сцене «Черт» выкинуть черта.
И какого черта! Которого Достоевский описывает с любовью и
тщательностью театрального костюмера.
2
Для режиссера не было бы никакого затруднения инсценировать
этот образ:
«Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного
сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, “qui frisait la cinquantaine”, как говорят
французы, с не очень сильною проседью. Одет он был в какой-то коричневый
пиджак, очевидно от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще
третьего года и совершенно вышедший из моды, так что из светских достаточных
людей таких никто уже два года не носил. Белый длинный галстук, в виде шарфа,
все было так, как у всех мелковатых джентльменов, но белье, если вглядеться
ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт, клетчатые панталоны гостя
сидели превосходно, но…» — словом все, вплоть до черепахового лорнета
выписано.
Когда надо было в «Мелком бесе» Недотыкомку одевать, пришлось
художнику-декоратору не мало поломать голову.
А здесь — все ясно.
И все легко.
Посадить такого гостя против Ивана Карамазова и заставить
вести диалог.
Но режиссер Художественного театра не сделал этого.
21
И не потому только, что это слишком легко.
А потому, что он не захотел превращать бред в сказку.
Не захотел заставить публику галлюцинировать вместе с
Иваном.
Иван сходит с ума и видит черта таким, каким его изобразил
Достоевский.
Но публика не сходит с ума.
Ей не надо видеть черта.
И в «Мелком бесе» не надо видеть Недотыкомку.
И Качалов взял на себя дерзкую задачу сделать так, чтобы
публика почувствовала черта, не видя его.
3
Прошлогодние проклятия Анатемы кажутся такими бледными и
холодными и пустыми перед этим трагическим диалогом самого с собой.
В них было столько риторики и бенгальского огня — в
этих взываниях к Стерегущему входы…
А тут…
… «если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог? Я
хочу в идеалистическое общество записаться, оппозицию у них буду делать: “дескать,
реалист, я не материалист, хе-хе…”»
… «обыкновенно в обществе принято за аксиому, что я падший
ангел. Ей-Богу не могу представить, каким образом я мог быть когда-нибудь
ангелом. Если и был когда, то так давно, что не грешно и забыть. Теперь я дорожу
этой репутацией порядочного человека и живу, как придется, стараясь быть
приятным. Я людей люблю искренно — о, меня во многом оклеветали! Здесь,
когда я временами к вам переселяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и
в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и сам, как и те же,
страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все
очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные
уравнения! Я здесь хожу и мечтаю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я
становлюсь суеверен; не смейся пожалуйста: мне именно это-то и нравится, что я
становлюсь суеверен. Я здесь все ваши привычки принимаю: я в баню торговую
полюбил ходить, можешь ты это представить, и люблю с купцами и попами париться.
Моя мечта, это — воплотиться, но что бы уж окончательно, безвозвратно, в
какую-нибудь толстую, семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит.
Мой идеал войти в церковь и поставить свечку от чистого сердца, — ей-Богу
так! Тогда предел моим страданиям…»!
… «Сатана sum et nihil humanum a me alienum
puto…»
… «Ты, кажется, решительно принимаешь меня за престарелого
Хлестакова, и однако судьба моя гораздо серьезнее. Каким-то довременным
назначением, которого я никогда разобрать не мог, я определен «отрицать», между
тем я искренно добр и к отрицанию не способен. «Нет, ступай отрицать, без
отрицания-де не будет критики, а какой же журнал, если нет «отделения
критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для жизни мало
одной «осанны», надо чтобы «осанна»-то эта переходила через
горнило сомнений”, — ну, и так далее, в этом роде. Я, впрочем, во все это
ввязываюсь, не я сотворил, не я и в ответе. Ну и выбрали — козла
отпущения, заставили писать в отделении критики, и получилась жизнь. Мы эту
комедию понимаем: я, например, требую себе уничтожения. Нет, живи, говорят,
потому что без тебя нельзя, ничего не 22 будет. Если бы на земле было все благоразумно, то ничего бы и
не произошло. Без тебя не будет никаких происшествий, а надо, чтобы были
происшествия…»
… «По-моему и разрушать ничего не надо, а надо всего только
разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С
этого, с этого надо начинать, — о, слепцы, ничего не понимающие! Раз
человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, параллель
геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все
прежнее мировоззрение, и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все
новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но
непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек
возвеличится духом божества, титанической гордостью, и явится человек-бог.
Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем
самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все
прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен волей, без
воскресения, и примет смерть гордо, спокойно, как бы…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
5
Дьявол, проповедующий со сцены ницшеанство.
И даже не дьявол.
А безумец, который сам сознает:
— Я тебя иногда не вижу и голоса своего даже не слышу, как в
прошлый раз, не всегда угадываю то, что ты мелешь потому, что это я, я сам
говорю, а не ты…
Сколько вызова, дерзости, глубины и оригинальности…
Какую смелость должен иметь Качалов, чтобы не испугаться
пошляков, которым напрашивается мотивчик:
Шел по Невскому пришпекту,
Сам с перчаткой рассуждал.
Не испугался. И вышел победителем. «Анатема» умерла. Да
здравствует «Анатема!»
Анатема еще глубже, еще дерзновеннее анатемствующая!
БЕСЕНОК
В уста безумца Достоевский вложил проповедь ницшеанства.
В уста хрупкой безногой девочки с личиком ангела —
проповедь анархизма.
Алеша. Вы для чего меня сегодня звали, Lise?
Лиза. Мне хотелось вам сообщить одно мое
желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь испугал, женился на мне, а потом
истерзал, обманул, ушел и уехал. Я не хочу быть счастливой.
Алеша. Полюбили беспорядок?
Лиза. Ах, я хочу беспорядок. Я все хочу
зажечь дом. Я воображаю: как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы
потихоньку. Они-то шумят, а он-то горит. А я знаю да молчу. Ах глупости! И как
скучно! (С отвращением махнула рукой.)
Алеша (тихо). Богато живете.
Лиза. Лучше что ль бедной-то быть?
Алеша. Лучше.
Лиза. Это вам ваш монах покойный наговорил.
Это неправда. Пусть я богата, а все бедные, я буду конфекты есть и сливки пить,
а тем никому не дам. Ах, не говорите, не говорите ничего (замахала ручкой,
хотя Алеша и рта не открывал), вы мне уж прежде все это говорили, я все
наизусть знаю. Скучно. Если я буду бедная, я кого-нибудь убью, — что
сидеть-то. А знаете, я хочу жать, рожь жать. Я за вас выйду, и вы станете
мужиком, настоящим мужиком; у нас жеребеночек, хотите? Вы Калганова знаете?
Алеша. Знаю.
Лиза. Он все ходит и мечтает. Он говорит:
зачем взаправду жить, лучше мечтать. Намечтать можно самое веселое, а
жить — скука. А ведь сам скоро женится, он уж и мне в любви объяснялся. Вы
умеете кубари спускать?
Алеша. Умею.
Лиза. Вот это он как кубарь: завертеть его и
спустить, и стегать, стегать, стегать кнутиком. Выйду за него замуж, всю жизнь
буду спускать. Вам не стыдно со мной сидеть?
Алеша. Нет.
Лиза. Вы ужасно сердитесь, что я не про
святое говорю. Я не хочу быть святою. Что сделают на том свете за самый большой
грех? Вам это должно быть в точности известно.
Алеша (пристально вглядываясь). Бог
осудит.
Лиза. Вот так я и хочу. Я бы пришла, а меня
бы и осудили, а я бы вдруг всем им и засмеялась в глаза. Я ужасно хочу зажечь
дом, Алеша, наш дом, вы мне не верите?
Алеша. Почему же? Есть даже дети, лет по
двенадцати, которым очень хочется зажечь что-нибудь, и они зажигают. Это вроде
болезни.
Лиза. Неправда, неправда! Пусть есть дети, но
я не про то.
Алеша. Вы злое принимаете за доброе:
это — минутный кризис, в этом ваша прежняя болезнь, может быть, виновата.
23 Лиза.
А вы таки меня презираете! Я просто не хочу делать доброе, я хочу делать злое,
а никакой болезни тут нет.
Алеша. Зачем делать злое?
Лиза. А чтобы нигде ничего не осталось. Ах,
как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать
ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все
узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех
смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно Алеша?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Алеша (задумчиво). Есть минуты, когда
люди любят преступление.
Лиза. Да, да! Вы мою мысль сказали: любят,
все любят, и не то что «минуты». Знаете, в этом все как будто когда-то
условились лгать и все с тех пор лгут. Все говорят, что ненавидят дурное, а про
себя все его любят.
Алеша. А вы все по-прежнему дурные книги
читаете?
Лиза. Читаю. Мама читает и под подушку
прячет, а я краду.
Алеша. Как вам не совестно разрушать себя?
Лиза. Я хочу себя разрушать. Тут есть один
мальчик, он под рельсами пролежал, когда над ним вагоны ехали. Счастливец!
Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что
он отца убил…
Алеша. Любят, что отца убил?
Лиза. Любят! Все любят! Все говорят, что это
ужасно и все любят! Я первая люблю…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смотрите, какой бунт в душе этого ребенка с ангельской
хрупкой наружностью.
Смотрите, какое садическое сладострастье разлито в ее речах
и поступках.
Сцена кончается тем, что, едва уходит Алеша, Лиза, с
громадным трудом встав на свои больные паралитические ножки с кресла на
колесах, к которому она прикована, подходит, медленно и неверно ступая с ножки
на ножку, к двери. «Отвернула щеколду, приотворила капельку дверь, вложила в
щель свой палец и, захлопнув дверь, — изо всей силы придавила его. Секунд
через десять, высвободив руку, она тихо, медленно прошла на свое кресло, села,
вся выпрямившись, и стала пристально смотреть на свой почерневший пальчик и на
выдававшуюся из-под ногтя кровь. Губы ее дрожали, и она быстро-быстро шептала
про себя:
— Подлая, подлая, подлая!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Оскорбленная и униженная…
Чем? — Быть может своей болезнью.
Бунтарка, садистка, мучительница, мученица, святая, бесенок…
Такой тип впервые появился на театральной сцене.
И в лице Кореневой находит идеальное воплощение.
В ней какая-то хрупкость.
И вместе — черствость.
Какая-то трагическая беспомощность.
И детская беспощадность.
Она родственница по духу Илюше. И — совсем, совсем
«особенная»…
— Подлая, подлая, подлая…
И:
— Чудная, чуткая, чистая!..
Она родственница по духу и Дмитрию, и Алеше, и Ивану:
— Карамазова!
И звучат пьяные слова Грушеньки в памяти:
— Все люди на свете хороши, все до единого хороши на свете.
Хоть и скверные, а хороши на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и
хорошие…
24 СУД
Картина суда — двадцатая картина.
Это надо помнить для того, чтобы оценить ее постановку.
Как должно быть утомлено внимание и нервы зрителя,
проведшего в зале девятнадцать картин тяжелейшей карамазовщины…
И среди них таких, как «Мокрое» и «Кошмар».
Уж если после девятнадцати картин «Суд» смотрится с
захватывающим интересом, — это полный триумф режиссера.
А тут появление Ивана, его припадок, внезапность показаний
Катерины Ивановны, молниеносные выкрики Мити положительно потрясают душу.
У г-жи Гзовской и тут не хватало темперамента, но все,
что она проделала, было умно и красиво.
Но зато какой океан темперамента вылился в одном душу
раздирающем крике Грушеньки — Германовой:
— Митя! Погубила тебя твоя змея!..
Митя завопил и тоже рванулся к ней.
И на этом аккорде бессильной злобы, бессильной любви,
безумной муки оборвались отрывки из «Братьев Карамазовых…»
Это только отрывки…
Только отрывки…
Но вам хватит на неделю разбираться во впечатлениях и
богатейшем материале, который они дали…
PRO И CONTRA
1
Во-первых, чтец.
Это ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно старо.
Старо, потому что еще в древнем греческом театре подобную
роль играл или один из актеров или хор.
Ново, потому что роль чтеца здесь совершенно иная.
В старину чтец был рассказчиком, он знакомил слушателей с
фабулой незнакомого им драматического произведения.
А здесь ведь предполагается, что публика знает фабулу.
Значит, чтец не рассказывает, а подсказывает.
Значит, чтец здесь — суфлер.
Суфлер, который суфлирует не артистам, а публике.
Это — ново.
И при громадности содержания романа полезно.
2
Во-вторых, занавес.
Тонкий темно-оливковый занавес не доходит до самого верха.
Полоска света, которую он оставляет, — интригующа.
Но немного раздражает тем, что заставляет на себя смотреть.
Занавес не поднимается, не раздвигается и не падает, а
отодвигается, отбегает от чтеца.
Слева направо обнажая картину.
Это ново.
Но мне не нравится.
Поднимающийся или раздвигающийся занавес дает сразу аккорд
зрительных ощущений.
Тут же аккорд красок разбивается как бы на арпеджио.
Первое впечатление расхолаживается.
Я бы стоял скорее за занавес падающий.
Миг — и спала завеса и обнажилась святая-святых.
3
Затем декорации.
Замена их безразличным фоном по идее — хорошая вещь.
Пусть декорации не давят актера здесь, пусть актер вырастет
в глазах зрителей, пусть слушатель только его словами и живет.
Так по идее.
А на деле отсутствие-то декораций и придавило актера.
Сцена кажется большой, пустой и мизерит актеров, превращает
их в человечков.
Правда, лишь только заговорят они словами Достоевского, как
вырастают в человека, в многозначительного человека…
А некоторые, которым говорить нечего, так и остаются
человечками, марионетками.
Такой марионеткой был до конца Алеша — Готовцев.
4
Выбор отрывков.
Ниже я привожу либретто, чтобы вы сами убедились, 25 удачен ли
выбор картин.
По-моему не совсем.
Он сделан так, как будто Вл. Ив. все-таки старался дать
публике не ряд красочных отрывков, а самую фабулу.
Поэтому ввел нехарактерные, неинтересные в психологическом
отношении картины, как «У Фени», «У Перхотина», «У отца», «В спальне».
От последней картины, впрочем, режиссура отказалась после
первого же спектакля.
И две остальные картины мог бы напомнить чтец.
Зато интересно было бы видеть воплощенными такие картины,
как «Кузьма Самсонов», «Лягавый», «Золотые прииски».
Пусть это эпизодические картины, но ведь и «Мочалка» —
эпизодическая.
В роли Самсонова, Лягавого и Хохлаковой (г-же Раевской
Хохлакова не удалась) могли бы неожиданно вспыхнуть талантливые актеры.
Об «Исповеди горячего сердца» не говорю.
Конечно эта картина чрезвычайно желательна.
Вл. Ив. тоже признавал ее необходимость, и даже роли
уже были расписаны.
Но…
— Боялись скуки на полчаса!
Нет движений, — одни разговоры.
5
Роли.
Безусловно удались:
Федор Павлович Карамазов — Лужский.
И по гриму и по тону.
Митя — Леонидов — превзошел все ожидания.
В нем даже не угадывался этот молниеносный темперамент.
Как он мог 15 лет скрываться на сцене, чтобы сразу так
всепобедно сверкнуть.
Выступив в «Карамазовых», он «проснулся знаменитым».
Снегирев — Москвин.
Он показал такое мягкое туше, такую технику полутонов, что
положительно влюбляешься в его Словоерсова.
Иван — Качалов — в «Кошмаре» превзошел
«Анатему», — этого достаточно.
Смердяков — Воронов — persona inserta доселе, теперь встает
твердой ногой на сцене.
Экзамен на звание артиста выдержан прекрасно.
Так перевоплотиться в Смердякова — задача нелегкая:
смердяковье лицо, смердяковий голос, смердяковьи жесты, позы, интонации.
Лиза — Коренева.
С каждой новой ролью молодая артистка дает новые ювелирные
драгоценности.
В Lise — придраться не к чему.
Да и нужно ли придираться? Нужно радоваться и приветствовать
восходящий талант.
Судебный следователь — Сушкевич.
26
Впервые встречаю это имя.
Но не забуду его, — надо следить за несомненным
талантом.
Тон обличает много вкуса.
Давая «правоведение», так легко было впасть в карикатуру.
А у Сушкевича — тип, а не шарж.
Грушенька — Германова — меня не удовлетворила.
Но я не знаю, какая другая русская артистка удовлетворила бы
меня в роли «царицы инфернальниц».
Были великолепные моменты, целая картина (в «Мокром»)
ведется безукоризненно…
Да, все хорошо, обдуманно, талантливо, подъемно и… все-таки
это не Грушенька.
И разъяснить не могу, чего не хватает, чего слишком много…
Не удалась и роль Катерины Ивановны — Гзовской.
Это уж по вине режиссера — эта роль ей совсем не
подходит.
Особенно незадачливы картины «Обе вместе», где очень
чувствуется разнотонье.
Пан Муссялович — Адашев — вполне приемлем. Грим и
акцент утрированы.
Зато совсем неприемлем Алеша — Готовцев.
Где та веселость и красота, навстречу которой раскрывались
все души?
Впрочем, в отрывках вообще, роль Алеши туманна.
Говорят, Готовцев ученик 1-го курса.
Это и видно.
На сцене был ученик 1-го курса. Но не было Алеши.
6
Над отрывками работали три режиссера под руководством
Вл. Ив. Немировича-Данченко.
Лично В. И. поставил следующие сцены: «Обе вместе»,
«Еще одна погибшая репутация», «У отца», «Надрыв в гостиной», «Надрыв в избе»,
«И на чистом воздухе», «Луковка», «Внезапное решение», «Не ты… не ты…»,
«Кошмар» (вместе с Марджановым).
Марджанов ставил «Контроверзу», «У Хохлаковых», «Пока еще
очень неясная», «Бесенок», «Третье и последнее свидание со Смердяковым».
Лужский ставил «Мокрое», — этот шедевр режиссуры.
27 САМИ О СВОЕЙ РАБОТЕ
Посетил всех выдающихся творцов «Братьев Карамазовых» на сцене
Художественного театра. Всем задавал одни вопросы:
— Сожалеете ли вы о том, что приняли участие в инсценировке?
— Научил ли вас чему-нибудь первый опыт?
— Намерены ли и впредь принимать участие в иллюстрировании
романов?
Думал найти их — в особенности Вл. Ив. Немировича-Данченко, —
хмурыми, разочарованными, озлобленными отношением прессы.
— А нашел — бодрых, радостных, победителей.
28 ВЛ. ИВ. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО
— А почему вы думаете, что я должен сожалеть о случившемся?
Напротив, я признаю первую попытку настолько удачной, что охвачен мыслью о
новых инсценировках. В голове моей настойчиво сидит давнишняя мечта
инсценировать «Мертвые души», «Анну Каренину», «Войну и мир»… Это мечта и
Константина Сергеевича! Я изумлен газетным сообщением, будто К. С. всегда
противился инсценировкам, и мы даже скрыли от него свою работу… Напротив, мысль
инсценировать появилась у нас года три тому назад. К. С-чу она настолько
понравилась, что он тотчас начал прикидывать, как «Карамазовы» разойдутся в
труппе. Раскладывал по ролям и «Мертвые души» — только этот роман нам
тогда показался менее пригодным для инсценировки, — боялись, не будет ли
скучноватым. К. С. до того загорелся мыслью инсценировать, что предлагал
устроить целый вечер инсценированных рассказов Чехова. Некоторые рассказы и
были нами инсценированы, и их успех еще более укрепил в нас веру в
осуществимость и желанность иллюстрирования романов Толстого, Достоевского,
Гоголя, Тургенева. Далее, если вдуматься да вглядеться, разве «Месяц в деревне»
не повесть? А разве «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» драмы по архитектонике?
Разве это не инсценированные романы? Только инсценировал их сам автор. Видя,
что нигде Чеховские пьесы не идут с бóльшим успехом, чем у нас, мы
решили, что именно на нас лежит долг произвести попытку отыскать новые формы
сценического искусства, которые иллюстрировали бы величайшие творения русской
литературы. Смешно нам читать, как газеты втолковывают, что лучше играть драму,
чем роман. Что же, мы дети разве? Разве мы не понимаем этого. И лучше и легче.
Но мы не искали легкости и удобства. И вот я поехал в драматическую цензуру.
Там мне категорически заявили, что не разрешат «Карамазовых» ни в каком случае.
Пришлось отложить осуществление мечты на год. Через год объяснили, что
разрешат, если не будет никаких разговоров о Боге и черте. И вот, наконец,
после долгих мытарств разрешили в том виде, в каком сейчас. Приступив к работе,
послали телеграмму К. С-чу. Телеграмма пришла в такой день, когда
положение больного было настолько серьезно, что домашние не захотели
показывать, зная, как взволнуется К. С. Ведь он волновался и тревожился
из-за пустяков, а тут такое труднейшее дело начали без него. Скрыли. А потом
пришлось скрывать и дальнейшие наши письма, в которых мы подробно рассказывали
о дальнейшем ходе наших работ. И до вчерашнего дня К. С. был уверен, что
мы ставим другое. А когда хитрость домашних обнаружилась и больной узнал, какой
труд мы совершили без него, он прислал нам восторженную телеграмму.
Видите, как похожи на истину газетные толки, что К. С.
противник постановки «Карамазовых». Мало того. Скажу вам, что в настоящее время
К. С. настолько окреп, что сам работает над инсценировкой одного романа…
Какого, — пока секрет…
— Ведь и А. И. Южин работает — по слухам, над
постановкой «Война и мир».
— Вот видите. Если это правда, то, значит, наша попытка не
единственная. И я уверен, А. И. многому научится из нашей попытки.
— Чему же может научить и чему научила она лично вас?
— Во-первых, я увидал, что чтец хорошо принят не только
публикой, но и артистами. Я думал, что его не примут артисты, что он будет
мешать, отвлекать от них. А вышло наоборот, — он помогает. В сцене суда,
например, оказался прямо необходим. Вот мне прислал Леонид Андреев свой
«Океан». Его поставить нельзя без чтеца, — в нем так много ремарок автора
и они так поэтичны, что пропускать их, — значит выбрасывать целую треть
творения…
— А насколько удачно это творение? Петербургские журналисты,
прослушавшие его у Фальковского, недовольны «Океаном».
— А мне очень понравилось.
— Итак, первое, чему научили вас «Карамазовы», —
приемлемость чтеца.
— Второе. Теперь уж мы не будем задумываться, считать ли
публику знакомой или незнакомой с содержанием иллюстрируемого романа.
Непременно знакомой. Разве по иллюстрациям книжки романа можно рассказать
содержание романа! А от нас вдруг пресса требует, чтобы нашими иллюстрациями мы
исчерпали весь роман. Это вовсе недостижимо! Этого вовсе мы не хотели и не
пытались. Мы так и напечатали черным по белому: «отрывки». Добросовестно ли тогда
укорять нас в отрывочности… Отрывочные отрывки… Судите только поскольку 31 ценны эти
отрывки… Вон один критик умудрился написать буквально: «Слабую переделку
слабого романа я предпочту осколкам прекрасного целого…» Разные бывают вкусы и
критики… Третье, чему научились мы, это — в декоративной части…
— Я уверен, что упразднить декорации и заменить их фоном
предложил Марджанов. Я видел в его постановке «Шлюк и Яу». Он поставил в
сукнах. Бутафория есть, а декораций нет.
— Вы не угадали. К упразднению их пришли мы с Лужским.
Сначала было Лужский предлагал нечто совсем иное, остроумное и интересное, что
именно, — сказать не имею права без его разрешения, потому что к этой
мысли он, наверно, вернется. Но мне показался проект этот неприемлемым именно для
«Карамазовых». Слишком уж важно каждое слово Достоевского, ни одно нельзя
пропустить мимо ушей, нигде нельзя ослабить или отвлечь внимание. А я боялся,
что декорации отвлекут от актера, который здесь — все. Мы посадили актера
с глазу на глаз с зрителем, мы сосредоточили на нем внимание всего зала… И нас
же за это упрекают те самые, которые ставили Художественному театру в вину, что
режиссер в нем задавил актера!.. Кричат: «дайте место актеру!» А когда мы
дали — мы же виноваты.
— Мне лично кажется, что полное уничтожение декорации так же
не выгодно для актера, как и загромождение сцены. Пустая сцена, как и пустая
комната, кажется больше и актер на ней мизернее. Издали человек на необъятном
сером фоне превращается в человечка.
— Быть может, вы правы. Надо бы срезать сцену. В будущем я
вообще думаю для иллюстрирования романа пользоваться всеми способами.
Стилизация, стилизация, — да вдруг реализм. Так ведь и в книге: рисунок,
рисунок, рисунок, а вдруг красочная картина. Такая вещь, как «Мокрое», должна
была быть крашеной картиной. Драматург дает рисунок, романист —
иллюминацию. Так вот эту-то иллюминацию и не грех иногда подчеркнуть.
— Неужели правда, что у вас было 190 репетиций?
— Если считать все, около того. Одних главных по две в день
в течение двух месяцев, — 120. Да с отдельными персонажами, побочных. Да с
художниками… Больше наберется… И надо удивляться, как были заражены все гением
Достоевского. С самого «Дна» Горького в театре не чувствовалось такого подъема!
Да и сейчас вся труппа чувствует себя празднично, бодро. Вот вы увидите…
В. В. ЛУЖСКИЙ
— Я чувствую глубочайшее удовлетворение. Недовольство нами
прессой нас не трогает. Сами мы собой довольны. Публика тоже. Ни одну пьесу не
смотрят так сосредоточенно. Пресса вообще никогда не баловала нас. Теперь же
прибегает прямо к несообразностям, чтобы опорочить нас. Вот, полюбуйтесь: одна
газета обрушилась на нас за то, что мы не даем хода молодежи. Это как раз
противоположно истине. Ни один театр не умеет так использовать молодежь, как наш.
Мы ничуть не задумываемся выпускать даже учеников в ответственных ролях, если
видим, что они подходят к типу. Аполлону Гореву в первый же год, как он
поступил к нам, дали Хлестакова. Барановская в «Жизни человека» выступила,
когда была ученицей. Коонен ученицей играла Митиль, Кореневу выпустили в Марии
Антоновне! Ученика Хохлова — в «Анатеме». Адашевские ученики —
Бондарев, Готовцев, Воронов, ученик Халютинской школы — Сушкевич, ученик
школы Морской — Болеславский, Тезавровский, Павлов, Массалитинов, —
разве все это не самая молодежь!.. И разве писать о том, что мы, старики,
заглушаем молодежь, добросовестно…
Он помолчал.
32
— А уж про Гзовскую другая газета совсем мерзость выдумала: будто ей
нарочно дали роль Катерины Ивановны, чтобы испортить ей дебют!..
Он поправил свой нос «римлянина времен упадка».
— Пытался кадык сделать. У Федора Павловича по
Достоевскому — кадык. Да не выходит. На сцене разгорячишься, он и
отстанет.
— Вы не раскаиваетесь, что поставили сцены без декораций?
— В этой картине, которую ставил я, — «Мокрое» —
так много движения, что декораций некогда разглядывать.
— Да. Тут девки — движущиеся декорации. Мне напомнила
сцена кутежа в «Мокром» встречу Лейзера в «Анатеме».
— Пожалуй. И там и тут мне хотелось, чтобы это не был
простой эпизод, а какой-то кошмар, символ, то, чему не подберешь название…
Удалась ли мне эта русская несуразица в кутеже Мити, но во всяком случае я
сделал все, что мог. И я не только доволен результатами инсценировки, но готов
на новые…
В. И. КАЧАЛОВ
— Я доволен всем случившимся. Если ругают, значит мы
возбудили интерес. А когда нас не ругали! Обращали мы внимание на
декорацию — кричат: «Декорации задавливают. Весь театр ушел в сверчка».
Упразднили мы декорацию — кричат: «почему нет окон? Почему нет стен?..» Не
давали места актеру — кричали: «Режиссер задавливает». Поставили актера на
первый план — опять кричат. Я лично считаю нашу попытку весьма интересной
и очень удавшейся. Уж взять одно, что «Карамазовы» дали возможность так высказаться
бурному темпераменту Леонидова, на мой взгляд, великая вещь. Еще вопрос: что
важнее для театра, получить ли великолепную пьесу или великолепного актера. В
пьесах нынешнего репертуара Леонидову негде было себя показать, — все
каких-то художников играл. А теперь вот дорвался до роли по себе, и все воочию
увидали, какой он сильный актер. Словно только что в труппу вступил!.. Словно
театр наш новое приобретение сделал! Радуюсь от всего сердца за Леонидова.
— Ну, а своей ролью, как довольны?
— Очень доволен. Это самая трудная и самая ответственная
роль, какую мне только пришлось играть.
— Не правда ли, монолог «Анатемы» гораздо беднее «Кошмара»?
— Сравнения нет. Там поза, выкрик, рисовка. А здесь… Правда,
цензура выкинула многое о Боге и о черте, но проповедь ницшеанства осталась…
так оригинально поданы эти мечты о сверхчеловеке… Меня упрекают со всех сторон
за то, что на сцене нет черта. Говорят: «Достоевский верил в реального черта и
потому так детально описал все до черепахового лорнета включительно!..» Пусть
Достоевский верил в черта. Но Ивану Карамазову черт представлялся как
болезненный бред, как сон, как игра больного воображения. Если бы Достоевскому
нужен был реальный черт, он не стал бы так напирать на болезнь Ивана… Да, Иван,
и только Иван, а не публика, должен видеть этого черта. У Шекспира, например,
тень отца Гамлета видят все, у Гете Мефистофеля видят все, — там он должен
быть на сцене… А тут, я думаю, что прав, ведя диалог сам с собой… Упрекали: «Не
везде ясно, где говорит Иван Карамазов, где черт…» А разве надо это?
Л. М. ЛЕОНИДОВ
Вот кого я думал встретить именинником.
А он совсем не по-именинному выглядит.
Бледный, измученный, тяжело дышащий, нервно вздрагивающий.
И в уборной он продолжает по инерции жить жизнью Мити
Карамазова.
Подойдет к зеркалу, нервной рукой поправит грим.
И опять как-то странно обернется.
И опять куда-то глаза торопятся.
Недешево, нелегко далась ему победа!
Каждый день — новая трепка нервов, все на нервах, все
на нервах…
Неужели стоит его спрашивать:
— Довольны ли вы ролью?
Неужели стоит спрашивать человека, выигравшего
200 тысяч!
— Довольны ли вы?
И. М. МОСКВИН
— Давно уж у меня не было такой прекрасной роли. И по душе
она и благодарная очень. Но зато уж и трудно ужасно. Держать на себе внимание
зала две картины подряд, — это стоит целой пьесы. Да, любую пьесу легче
сыграть, потому что здесь очень уж все сконцентрировано.
— У вас, кажется, мало пропусков?
— Пропустил кое-что. Например, о лошадке… Думал, не чересчур
ли длинно, не утомлю ли, не надоем ли. А теперь вижу, что напрасно выпустил…
Слежу, как жадно публика каждое слово ловит… Еще бы, ведь Достоевский…
33 ЛИБРЕТТО
Федор Павлович Карамазов имеет трех сыновей. Старший,
поручик в отставке, Митя, от первого брака, воспитывавшейся родственником
матери, узнал и увидел отца своего в первый раз только после совершеннолетия.
От второго брака у Федора Павловича родились — Иван и Алеша. Иван кончил
университет естественником и постоянно проживает в Москве. Алеша «ранний
человеколюбец», бросив гимназию, пошел в послушники в монастырь, которым
знаменит его родной город и в котором спасается старец Зосима, прославленный
необыкновенной святостью и силой творить чудеса. Федор Павлович, накопивший
себе крупное состоите, скрывает его от своих сыновей и отказывает им, в
особенности Мите, в средствах. Как Федор Павлович сам поясняет, ему нужны
деньги самому для того, чтобы, на старости лет, когда женщины уже не пойдут к
нему доброй волей, можно было бы соблазнить их деньгами. Вот и теперь Федор
Павлович влюблен в Грушеньку; он все ждет ее к себе и у него под подушкой
приготовлен для нее пакет с тремя тысячами и с надписью: «ангелу моему,
Грушеньке, если она захочет прийти». С этой самой Грушенькой познакомился
как-то Митя и влюбился в нее. В то же время Митя считается женихом молодой
барышни Катерины Ивановны, история которой такова: когда Митя был еще
прапорщиком, к его батальонному командиру приехала погостить по окончании
столичного института дочка его, Катерина Ивановна. Невзирая на все старания
Мити, она на него не обращала никакого внимания. Вскоре после ее приезда
обнаружилось, что отец Катерины Ивановны растратил четыре с половиной тысячи
казенных денег, которые необходимо было немедленно пополнить. Митя, узнав об этом,
предложил Катерине Ивановне дать ей эту сумму для спасения отца, но при
условии, что она сама придет за деньгами к нему на квартиру. Катерина Ивановна
явилась к Мите, как было условлено, и так покорила его своею смелостью и
гордостью, что он, не прикоснувшись к ней, молча достал и отдал ей деньги.
Катерина Ивановна, тоже молча, поклонилась ему до земли и убежала. Три месяца
спустя, Катерина Ивановна, получив большое наследство от тетки, вернула Мите
долг, объяснилась ему в любви и стала его невестой. Как-то, в последний приезд
Мити в родной город, Катерина Ивановна передала ему 3 тысячи рублей для
перевода в Москву. Митя деньги эти не отправил: часть их он прокутил с
Грушенькой, думая добиться у нее благосклонности, но безрезультатно; оставшуюся
же часть он носил на груди, в ладонке, чтобы, пополнив недостающую сумму,
вернуть все Катерине Ивановне. Забота об этом долге и является главной причиной
того, что Митя так настойчиво требует от отца денег в счет следуемых ему после
смерти матери 28 тысяч. Федор Павлович, утверждая, что Митя получил
полностью все, что ему полагается, отказывается дать ему что-нибудь, и для
решетя этого вопроса Карамазов-отец и три его сына сходятся в монастыре, в
келье Зосимы, чтобы старец своим авторитетным мнением разрешил их спор. Но
вместо этого Федор Павлович устраивает в келье дебош, издевается над старцем и
кончает тем, что приказывает Алеше бросить монастырь и переехать в город к
нему. Отец Зосима, безропотно перенесший всю безобразную сцену, также посылает
Алешу в мир, дабы он был около братьев своих, которым он скоро понадобится.
КАРТИНЫ 1-е
Контроверза. За коньячком. Сладострастники
(Кн. 3-я. Гл. VII, VIII, IX)
Участвующие:
Федор Павлович Карамазов — г. Лужский.
Митя — г. Леонидов.
Иван — г. Качалов.
Алеша — г. Готовцев.
Смердяков — г. Воронов.
Григорий — г. Уралов.
Алеша пошел к отцу и застал его с братом Иваном за столом. Слуги,
Смердяков и Григорий, стоят у стола. Смердяков — сын городской юродивой
Лизаветы Смердящей, которого Григорий взял к себе и воспитал. В городе глухо
носилась молва, что отцом Смердякова был ни кто иной, как сам Федор Павлович.
Как бы то ни было, но Смердяков вырос во флигеле при доме Федора Павловича и с
раннего детства отличался крайней молчаливостью, с детства же начал он страдать
и припадками падучей. Промолчавший почти всю свою жизнь, Смердяков, перед самым
приходом Алеши, вдруг заговорил на тему о Боге и бессмертии. Над ним издевается
Федор Павлович. Потешившись над Смердяковым, Ф. П. начинает рассказывать,
как он издавался над второй своей женой, матерью Ивана и Алеши, и как он ее
доводил до припадков своими богохульственными выходками. Рассказ этот так
действует на Алешу, что и с ним делается припадок. Появляется Митя, которому
показалось, что к отцу вбежала Грушенька. Он ищет ее повсюду, но не находит.
Происходит ссора между Митей и отцом, во время которой Митя избивает отца. Митя
посылает Алешу к Катерин Ивановне, просит его описать ей всю происшедшую сцену,
и передать, что он, Митя, «велел кланяться».
34 КАРТИНА 2-я
У отца
Участвующие:
Федор Павлович Карамазов — г. Лужский.
Алеша — г. Готовцев.
Алеша, перед тем как направиться к Катерине Ивановне, заходит в
спальню к отцу; тот, в свою очередь, просит его зайти к Грушеньке разузнать,
придет ли она к нему или нет.
КАРТИНА 3-я
Обе вместе
(Кн. 3-я. Гл. X)
Участвующие:
Катерина Ивановна — г-жа Гзовская.
Грушенька — г-жа Германова.
Алеша — г. Готовцев.
1-я тетка — г-жа Павлова.
2-я тетка — г-жа Дейкун.
Горничная — г-жа Юркевич.
Алеша приходит к Катерине Ивановне и передает ей поручение Мити.
Катерина Ивановна, желая спасти Митю от Грушеньки, пригласила ее к себе и
уговаривала отказаться от Мити. Она призывает Грушеньку в гостиную к Алеше,
начинает расхваливать ее, наконец сама целует у Грушеньки руку. Грушенька, как
оказывается, не только не желает отказаться от Мити, но еще начинает издаваться
над Катериной Ивановной и напоминает, что Катерина Ивановна ходила к Мите
«продавать свою красоту».
КАРТИНА 4-я
Еще одна погибшая репутация
(Кн. 3-я. Гл. XI)
Участвующее:
Митя — г. Леонидов.
Алеша — г. Готовцев.
От Катерины Ивановны Алеша направляется обратно в монастырь и по
дороге встречает Митю, которому он рассказывает о только что происшедшем. Придя
в монастырь, Алеша застает отца Зосиму очень слабым, почти умирающим. На
следующий день, по велению и с благословения старца, Алеша снова направляется в
город первым делом к отцу.
КАРТИНА 5-я
У отца
(Кн. 4-я. Гл. II)
Участвующие:
Федор Павлович Карамазов — г. Лужский.
Алеша — г. Готовцев.
Федор Павлович жалуется Алеше на Митю и Ивана, которых он боится, и
уверяет Алешу, что Иван влюблен в Катерину Ивановну.
КАРТИНА 6-я
У Хохлаковых
(Кн. 4-я. Гл. IV)
Участвующие:
Г-жа Хохлакова — г-жа Раевская.
Lise —
г-жа Коренева.
Алеша — г. Готовцев.
Горничная — г-жа Шевченко.
Еще когда Алеша уходил от Катерины Ивановны, горничная передала ему
письмо от Лизы, дочери помещицы Хохлаковой, молоденькой больной девочки,
которая влюбилась в Алешу и просит прийти к ней. Алеша, простившись с отцом,
направляется к Хохлаковой. По дороге он встречается с группой школьников,
бросающих друг в друга камни. Алеша, заметив, что из семи — шесть нападают
на одного, Илюшу Снегирева, начинает укорять их за неблагородный поступок, как
вдруг этот самый Илюша, которого он защищает, бросается на него и больно кусает
его за палец. С укушенным пальцем приходит он к Хохлаковой. Лиза, все время
очень нервничавшая, как только увидала пораненный палец Алеши, еще больше
заволновалась, чем окончательно сбивает с толку свою и так растерявшуюся мать.
Пока мать уходит за примочкой, между Лизой и Алешей происходите объяснение, в
течение которого Алеша делает предложение Лизе; у Хохлаковой в это время в
гостиной сидит Катерина Ивановна.
КАРТИНА 7-я
Надрыв в гостиной
(Кн. 4-я. Гл. V)
Участвующие:
Катерина Ивановна — г-жа Гзовская.
Иван — г. Качалов.
Алеша — г. Готовцев.
Г-жа Хохлакова — г-жа Раевская.
К ней идет Алеша и застает там Ивана. Происходит снова объяснение
по поводу Мити и его поведения, из которого Алеше становится ясно, что Катерина
Ивановна, в действительности, любит Ивана и только заставила себя поверить, что
любит Митю. Катерина Ивановна рассказывает Алеше о том, как Митя в трактире
оттаскал при всех за бороду некоего штабс-капитана Снегирева, отца того самого
мальчика, который укусил Алешу. Катерина Ивановна просит Алешу сходить к
Снегиреву и передать ему от нее 200 руб.
КАРТИНА 8-я
Надрыв в избе
(Кн. 4-я. Гл. VI)
Участвующее:
Снегирев — г. Москвин.
Арина Петровна — г-жа Бутова.
Варя — г-жа Косминская.
Нина — г-жа Богословская.
Илюша — г-жа Дейкарханова.
Алеша — г. Готовцев.
Алеша идет к Снегиреву и разыскивает его в избе, где он приютился с
сумасшедшей женой, двумя дочерьми и больным Илюшей.
КАРТИНА 9-я
И на чистом воздухе
(Кн. 4-я. Гл. VII)
Участвующее:
Снегирев — г. Москвин.
Алеша — г. Готовцев.
Снегирев приглашает Илюшу «на чистый воздух» для объяснения и там,
на камне, Алеша передает ему поручение Катерины Ивановны. Снегирев сперва
радуется деньгам и возможности помочь своей семье, но вспомнив, как он обещал
Илюше не продавать своей чести за деньги, комкает сторублевые бумажки и топчет
их ногой.
КАРТИНА 10-я
Пока еще очень не ясная
(Кн. 5-я. Гл. VI)
Участвующие:
Иван — г. Качалов.
Смердяков — г. Воронов.
Иван у ворот дома отца встречает Смердякова. Смердяков уговаривает
Ивана уехать куда-нибудь и в то же время передает ему свои опасения, как бы не
произошло чего-нибудь между Митей и отцом из-за Грушеньки. Иван чувствует, что
Смердяков что-то знает и что готовится недоброе; он почти бросается на
Смердякова, но вдруг начинает смеяться и уходит в калитку. Алеша, вернувшись в
монастырь, застал Зосиму умирающим, но бодрым. О. Зосима призывает его к
себе, благословляет и велит ему снять подрясник, бросить монастырь и уйти в
мир. Вскоре после этого о. Зосима умирает.
35 КАРТИНА 11-я
Луковка
(Кн. 7-я. Гл. III)
Участвующее:
Грушенька. — Г-жа Германова.
Алеша — г. Готовцев.
Ракитин — г. Тезавровский.
Феня — г-жа Соловьева.
Семинарист Ракитин, которому Грушенька обещала 25 руб., если
он приведет к ней Алешу, уговаривает его пойти к ней. Алеша и Ракитин застают
Грушеньку в большом волнении. Она только что узнала, что едет к ней «он», пан
Муссялович, тот самый офицер, который соблазнил ее семнадцатилетней девушкой,
бросил и вот теперь снова возвращается к ней и хочет жениться на ней. Приносят
письмо от офицера, который остановился недалеко от города, в селе Мокром.
Грушенька быстро собирается, едет и на прощание с Алешей просит его передать
Мите, что любила его «один часок времени» и «чтобы он всю жизнь свою этот часок
помнил». Митя, которому Алеша передал последние слова Грушеньки, весь ушел в
хлопоты, как бы достать денег прежде всего для того, чтобы отдать долг Катерине
Ивановне, и затем, чтобы на случай, если вдруг, неожиданно, Грушенька скажет
ему «я твоя», — была возможность ее увезти куда-нибудь. К этому времени у
него не осталось ни копейки, а так как ему необходимо было совершить разные
поездки и за город, в поисках за тремя тысячами, то пришлось заложить пистолеты
свои чиновнику Перхотину за 10 руб. и занять у хозяев 3 руб. Все
его поиски денег оказались тщетными: 3 тысячи занять не удалось. Поздно
вечером он забежал в дом Грушеньки, на кухню, чтобы узнать, куда она уехала,
но, ничего не добившись, решил, что она, наконец, отправилась к Федору
Павловичу. Из кухни дома Грушеньки он выбежал, схватив на лету медный пестик,
и, сделав крюк, перелез через забор в сад отца. Там он притаился, решив
посмотреть — у старика ли Грушенька или нет… Вскоре он убедился, что она
не пришла еще, но что старик ее ждет. Старик показался в окне, и страшная
ненависть вскипела в душе Мити. Он выхватил пестик. Старик Григорий в это время
проснулся и случайно вышел на крыльцо. Он вдруг заметил, как по саду пробежала
какая-то тень; он побежал за ней и догнал ее как раз в тот момент, когда она
собиралась перелезать через забор. Это был Митя. Митя размахнулся и пестиком
ударил Григория в голову. Григорий упал, обливаясь кровью. Митя подбежал к
Григорию, стал вытирать со лба старика кровь платком. Но потом, решив, что он
умер, махнул рукой, положил платок в карман сюртука и убежал.
КАРТИНА 12-я
У Фени
(Кн. 8-я. Гл. V)
Участвующее:
Митя — г. Леонидов.
Феня — г-жа Соловьева.
Бабушка — г-жа Попова.
Прибежал он опять в кухню к Грушеньке как раз в то время, когда
горничная Феня и бабушка ее собирались спать. Своими окровавленными руками и
всем видом своим он так испугал Феню, что она рассказала ему всю сцену, как
пришли Алеша и Ракитин, как принесли письмо и как Грушенька уехала в Мокрое к
офицеру.
КАРТИНА 13-я
Внезапное решение
Митя — г. Леонидов.
Петр Ильич Перхотин — г. Подгорный.
Миша — г. Вальтенберг.
Чтец — Н. Н. Званцев.
От Фени Митя побежал к Перхотину, у которого он несколько часов
тому назад заложил пистолеты. В окровавленных руках у Мити была целая пачка
сторублевых. Необычайный вид Мити, куча денег, кровь — все это смущает
Перхотина. Митя дает сбивчивые показания, берет пистолеты, заряжает один из
них, пишет что-то на бумажке. Перхотин, встревоженный, пристает с расспросами.
Митя заявляет, что он идет кутить в Мокрое, зовет Перхотина с собой выпить и
показывает бумажку, на ней написано: «Казню себя за всю жизнь, всю жизнь мою
наказую».
КАРТИНА 14-я
МОКРОЕ
Прежний и бесспорный. Бред. Хождение души по мытарствам.
Мытарство первое. Мытарство второе. Мытарство третье. Прокурор поймал Митю.
Увезли Митю
(Кн. 8-я. Гл. VII, VIII, Кн. 9-я.
Гл. III, IV, V)
Участвующие:
Митя — г. Леонидов.
Грушенька — г-жа Германова.
Пан Муссялович — г. Адашев.
Пан Врублевский — г. Болеславский.
Максимов — г. Павлов.
Калганов — г. Ракитин.
Трифон Борисович — г. Знаменский.
Прокурор — г. Хохлов.
Судебный следователь — г. Сушкевич.
Исправник — г. Массалитинов.
Писарь — г. Бабачин.
Девки, парни, понятые, урядник.
Митя, получив свои пистолеты от Перхотина, выпив с ним бутылку
шампанского в лавке и, набрав вина, закусок и всяких сластей, поскакал в
Мокрое. Узнав, что Грушенька с компанией находится на постоялом дворе, у
Трифона Борисовича, он является туда и входит в комнату, где находятся
Грушенька, ее жених, пан Муссялович, другой поляк Врублевский, помещик Максимов
и Калганов. Все присутствующие вначале пугаются при появлении Мити, но вскоре
успокаиваются, видя, что он не собирается затевать скандала. Муссялович,
Врублевский, Максимов и Митя садятся играть в карты, но Калганов, увидав, что
поляки плутуют, прекращает игру. Митя предлагает Муссяловичу три тысячи, чтобы
он немедленно уехал и отказался от Грушеньки. Муссялович, убедившись, что у
Мити с собой только 700 руб., якобы в благородном негодовании
отказывается. Поляков уличают в шулерстве и запирают в соседнюю комнату. Кутеж.
Грушенька пьянеет и уже почти отдается Мите, как вдруг в постоялый двор
наезжает товарищ прокурора, судебный следователь, пристав, урядник, понятые и
арестовывают Митю, обвиняя его в убийстве отца своего, происшедшем в ту же
ночь. Митя вначале думает, что его обвиняют в убийстве Григория. Но потом,
узнав, что старик слуга жив, а убит Федор Павлович и в этом убийстве
подозревают его, решительно отвергает обвинение. Начинается допрос. Все улики и
главным образом факт, что в тот же день вечером у Мити не было ни копейки, а
несколько часов спустя он сорил сотнями, говорят за то, что лицо, убившее и
ограбившее старика Карамазова, — он, Митя. Не желая впутывать в дело
Катерину Ивановну, на деньги которой (остаток от трех тысяч, который был зашит
в ладонку) он кутит, Митя долго не решается объяснить, откуда у него появились
сотенные бумажки. И когда он под конец объясняет, не упомянув имя Катерины
Ивановны, ему не верят и отвозят его в тюрьму.
КАРТИНА 15-я
Бесенок
(Кн. 11-я. Гл. III)
Участвующие:
Lise —
г-жа Коренева.
Алеша — г. Готовцев.
Алеша, бросив монастырь и сняв подрясник, приходит к Лизе и застает
ее в страшном возбуждении. Она говорит ему о своих страшных мыслях, страшных
снах и под конец просит его передать письмо Ивану.
КАРТИНЫ 16 и 17-я
Не ты… не ты
(Кн. 11-я. Гл. V)
Участвующие:
Катерина Ивановна — г-жа Гзовская.
Иван — г. Качалов.
Алеша — г. Готовцев.
Алеша заходит к Катерине Ивановне и застает там Ивана. У Катерины
Ивановны назревает решение погубить Митю в отместку за то, что он полюбил
Грушеньку. Это ей легко сделать, т. к. у нее имеется письмо, написанное за
несколько 36 дней до убийства, в
котором Митя сознается в своем намерении убить отца, если не достанет денег.
Иван уходит, и Катерина Ивановна посылает Алешу вслед за ним, уверяя его, что
Иван болен нервной горячкой.
Алеша догоняет Ивана на перекрестке. Он передает ему письмо Лизы,
но Иван, не читая, разрывает его. Разговор касается убийства Федора Павловича.
Алеша убежден, что отца убил не Митя. На вопрос Ивана, кто же убийца, Алеша
отвечает: «я одно только знаю, убил отца не ты».
КАРТИНА 18-я.
Третье и последнее свидание со Смердяковым
(Кн. 11-я. Гл. VII)
Участвующее:
Иван — г. Качалов.
Смердяков — г. Воронов.
Распростившись с Алешей на перекрестке, Иван направляется к
Смердякову. Еще по возвращении из Москвы, куда Иван уезжал, как раз перед
смертью отца, ему неоднократно вспоминался разговор со Смердяковым у калитки и
возникали у него подозрения, не Смердяков ли убил Федора Павловича? Эти
подозрения усиливаются тем, что Алеша прямо называет Смердякова убийцей. Но
улики, свидетельские показания — все говорит за виновность Мити.
Смердяков, как он и предсказал в ночь убийства, заболел настолько сильно припадком
падучей, что его пришлось отвезти в больницу. Там его посетила Катерина
Ивановна, стараясь выведать у него что-нибудь. Посетил его и Иван три раза. В
третий раз Смердяков, наконец, сознается в убийстве Федора Павловича, но
поясняет, что действовал по косвенному наущению Ивана и под влиянием его
теории: «все дозволено». Смердяков передает Ивану три тысячи, похищенные у
Федора Павловича.
КАРТИНА 19-я
Черт.
Кошмар Ивана Федоровича
(Кн. 11-я. Гл. IX)
Участвующие:
Иван — г. Качалов.
Алеша — г. Готовцев.
Иван приходит домой от Смердякова в припадке белой горячки.
Галлюцинирует. Ему кажется, что он ведет длинную беседу с чертом. Алеша
приходит к нему и сообщает, что Смердяков повесился.
КАРТИНА 20-я
Судебная ошибка. Внезапная катастрофа
(Кн. 12-я. Гл. V)
Участвующие:
Митя — г. Леонидов.
Иван — г. Качалов.
Алеша — г. Готовцев.
Катерина Ивановна — г-жа Гзовская.
Грушенька — г-жа Германова.
Ракитин — г. Тезавровский.
Перхотин — г. Подгорный.
Исправник — г. Массалитинов.
Трифон Борисыч — г. Знаменский.
1-я тетка — г-жа Павлова.
Григорий — г. Уралов.
Феня — г-жа Соловьева.
Бабушка — г-жа Попова.
Фетюкович, адвокат — г. Мухин.
Судебный пристав — г. Салтыков.
Судейские чины, курьеры, жандармы, публика.
Чтец — Н. Н. Званцев.
Митю судят. Показания большинства свидетелей весьма неблагоприятны
для Мити. Только начиная с показаний Алеши, раскрывается ряд фактов, говорящих
в пользу подсудимого. Катерина Ивановна дает первое показание, в котором
рассказывает о благородном поступке Мити с 4-мя тысячами и о земном
поклоне. Грушенька определенно утверждает, что Федора Павловича убил Смердяков.
Появляется свидетелем Иван, совершенно больной. Он рассказывает о признании
Смердякова и предъявляет деньги, полученные от него. С ним делается буйный
припадок и его уводят. Катерина Ивановна, в истерике, срывается с места,
заявляет, что Иван бредит, что деньги — три тысячи — он принес свои,
дабы спасти брата, отказывается от своего первого показания и предъявляет
письмо Мити, в котором он сознается в намерении убить отца. Письмо читают. Мите
выносят обвинительный приговор, но последние слова его: «в крови отца моего не
повинен».
- Полный текст
- От автора
- Часть первая
- Книга первая. История одной семейки
- I. Федор Павлович Карамазов
- II. Первого сына спровадил
- III. Второй брак и вторые дети
- IV. Третий сын Алеша
- V. Старцы
- Книга вторая. Неуместное собрание
- I. Приехали в монастырь
- II. Старый шут
- III. Верующие бабы
- IV. Маловерная дама
- V. Буди, буди!
- VI. Зачем живет такой человек!
- VII. Семинарист-карьерист
- VIII. Скандал
- Книга третья. Сладострастники
- I. В лакейской
- II. Лизавета смердящая
- III. Исповедь горячего сердца. В стихах
- IV. Исповедь горячего сердца. В анекдотах
- V. Исповедь горячего сердца. «Вверх пятами»
- VI. Смердяков
- VII. Контроверза
- VIII. За коньячком
- IX. Сладострастники
- X. Обе вместе
- XI. Еще одна погибшая репутация
- Часть вторая
- Книга четвертая. Надрывы
- I. Отец Ферапонт
- II. У отца
- III. Связался со школьниками
- IV. У Хохлаковых
- V. Надрыв в гостиной
- VI. Надрыв в избе
- VII. И на чистом воздухе
- Книга пятая. Pro и contra
- I. Сговор
- II. Смердяков с гитарой
- III. Братья знакомятся
- IV. Бунт
- V. Великий инквизитор
- VI. Пока еще очень неясная
- VII. «С умным человеком и поговорить любопытно»
- Книга шестая. Русский инок
- I. Старец Зосима и его гости
- II. Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем Карамазовым
- III. Из бесед и поучений старца Зосимы
- Часть третья
- Книга седьмая. Алеша
- I. Тлетворный дух
- II. Такая минутка
- III. Луковка
- IV. Кана Галилейская
- Книга восьмая. Митя
- I. Кузьма Самсонов
- II. Лягавый
- III. Золотые прииски
- IV. В темноте
- V. Внезапное решение
- VI. Сам еду!
- VII. Прежний и бесспорный
- VIII. Бред
- Книга девятая. Предварительное следствие
- I. Начало карьеры чиновника Перхотина
- II. Тревога
- III. Хождение ДУШИ по мытарствам
- IV. Мытарство второе
- V. Третье мытарство
- VI. Прокурор поймал Митю
- VII. Великая тайна Мити. Освистали
- VIII. Показание свидетелей. Дитё
- IX. Увезли Митю
- Часть четвертая
- Книга десятая. Мальчики
- I. Коля Красоткин
- II. Детвора
- III. Школьник
- IV. Жучка
- V. У Илюшиной постельки
- VI. Раннее развитие
- VII. Илюша
- Книга одиннадцатая. Брат Иван Федорович
- I. У Грушеньки
- II. Больная ножка
- III. Бесенок
- IV. Гимн и секрет
- V. Не ты, не ты!
- VI. Первое свидание со Смердяковым
- VII. Второй визит к Смердякову
- VIII. Третье, и последнее, свидание со Смердяковым
- IX. Черт. Кошмар Ивана Федоровича
- X. «Это он говорил!»
- Книга двенадцатая. Судебная ошибка
- I. Роковой день
- II. Опасные свидетели
- III. Медицинская экспертиза и один фунт орехов
- IV. Счастье улыбается Мите
- V. Внезапная катастрофа
- VI. Речь прокурора. Характеристика
- VII. Обзор исторический
- VIII. Трактат о Смердякове
- IX. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора
- X. Речь защитника. Палка о двух концах
- XI. Денег не было. Грабежа не было
- XII. Да и убийства не было
- XIII. Прелюбодей мысли
- XIV. Мужички за себя постояли
- Эпилог
- I. Проекты спасти Митю
- II. На минутку ложь стала правдой
- III. Похороны Илюшечки. Речь у камня
Книга пятая. Pro и contra[16]
I. Сговор
Госпожа Хохлакова опять встретила Алешу первая. Она торопилась: случилось нечто важное: истерика Катерины Ивановны кончилась обмороком, затем наступила «ужасная, страшная слабость, она легла, завела глаза и стала бредить. Теперь жар, послали за Герценштубе, послали за тетками. Тетки уж здесь, а Герценштубе еще нет. Все сидят в ее комнате и ждут. Что-то будет, а она без памяти. А ну если горячка!»
Восклицая это, госпожа Хохлакова имела вид серьезно испуганный: «Это уж серьезно, серьезно!» – прибавляла она к каждому слову, как будто все, что случалось с ней прежде, было несерьезно. Алеша выслушал ее с горестью; начал было излагать ей и свои приключения, но она его с первых же слов прервала: ей было некогда, она просила посидеть у Lise и у Lise подождать ее.
– Lise, милейший Алексей Федорович, – зашептала она почти на ухо, – Lise меня странно удивила сейчас, но и умилила, а потому сердце мое ей все прощает. Представьте, только что вы ушли, она вдруг искренно стала раскаиваться, что над вами будто бы смеялась вчера и сегодня. Но ведь она не смеялась, она лишь шутила. Но так серьезно раскаивалась, почти до слез, так что я удивилась. Никогда она прежде серьезно не раскаивалась, когда надо мною смеялась, а все в шутку. А вы знаете, она поминутно надо мною смеется. А вот теперь она серьезно, теперь пошло все серьезно. Она чрезвычайно ценит ваше мнение, Алексей Федорович, и если можете, то не обижайтесь на нее и не имейте претензии. Я сама только и делаю, что щажу ее, потому что она такая умненькая – верите ли вы? Она говорила сейчас, что вы были другом ее детства, – «самым серьезным другом моего детства», – представьте себе это, самым серьезным, а я‑то? У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства и даже воспоминания, а главное, эти фразы и словечки, самые неожиданные эти словечки, так что никак не ожидаешь, а вдруг оно и выскочит. Вот недавно о сосне, например: стояла у нас в саду в ее первом детстве сосна, может и теперь стоит, так что нечего говорить в прошедшем времени. Сосны не люди, они долго не изменяются, Алексей Федорович. «Мама, говорит, я помню эту сосну, как со сна», – то есть «сосну, как со сна» – это как-то она иначе выразилась, потому что тут путаница, «сосна» слово глупое, но только она мне наговорила по этому поводу что-то такое оригинальное, что я решительно не возьмусь передать. Да и все забыла. Ну, до свиданья, я очень потрясена и, наверно, с ума схожу. Ах, Алексей Федорович, я два раза в жизни с ума сходила, и меня лечили. Ступайте к Lise. Ободрите ее, как вы всегда прелестно это сумеете сделать. Lise, – крикнула она, подходя к ее двери, – вот я привела к тебе столь оскорбленного тобою Алексея Федоровича, и он нисколько не сердится, уверяю тебя, напротив, удивляется, как ты могла подумать!
– Mersi, maman; войдите, Алексей Федорович.
Алеша вошел. Lise смотрела как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она видимо чего-то стыдилась и, как всегда при этом бывает, быстро-быстро заговорила совсем о постороннем, точно этим только посторонним она и интересовалась в эту минуту.
– Мама мне вдруг передала сейчас, Алексей Федорович, всю историю об этих двухстах рублях и об этом вам поручении… к этому бедному офицеру… и рассказала всю эту ужасную историю, как его обидели, и, знаете, хоть мама рассказывает очень нетолково… она все перескакивает… но я слушала и плакала. Что же, как же, отдали вы эти деньги, и как же теперь этот несчастный?..
– То-то и есть, что не отдал, и тут целая история, – ответил Алеша, с своей стороны как бы именно более всего озабоченный тем, что деньги не отдал, а между тем Lise отлично заметила, что и он смотрит в сторону и тоже видимо старается говорить о постороннем. Алеша присел к столу и стал рассказывать, но с первых же слов он совершенно перестал конфузиться и увлек, в свою очередь, Lise. Он говорил под влиянием сильного чувства и недавнего чрезвычайного впечатления, и рассказать ему удалось хорошо и обстоятельно. Он и прежде, еще в Москве, еще в детстве Lise, любил приходить к ней и рассказывать то из случившегося с ним сейчас, то из прочитанного, то вспоминать из прожитого им детства. Иногда даже оба мечтали вместе и сочиняли целые повести вдвоем, но большею частью веселые и смешные. Теперь они оба как бы вдруг перенеслись в прежнее московское время, года два назад. Lise была чрезвычайно растрогана его рассказом. Алеша с горячим чувством сумел нарисовать перед ней образ «Илюшечки». Когда же кончил во всей подробности сцену о том, как тот несчастный человек топтал деньги, то Lise всплеснула руками и вскричала в неудержимом чувстве:
– Так вы не отдали денег, так вы так и дали ему убежать! Боже мой, да вы хоть бы побежали за ним сами и догнали его…
– Нет, Lise, этак лучше, что я не побежал, – сказал Алеша, встал со стула и озабоченно прошелся по комнате.
– Как лучше, чем лучше? Теперь они без хлеба и погибнут!
– Не погибнут, потому что эти двести рублей их все-таки не минуют. Он все равно возьмет их завтра. Завтра-то уж наверно возьмет, – проговорил Алеша, шагая в раздумье. – Видите ли, Lise, – продолжал он, вдруг остановясь пред ней, – я сам тут сделал одну ошибку, но и ошибка-то вышла к лучшему.
– Какая ошибка и почему к лучшему?
– А вот почему, это человек трусливый и слабый характером. Он такой измученный и очень добрый. Я вот теперь все думаю: чем это он так вдруг обиделся и деньги растоптал, потому что, уверяю вас, он до самого последнего мгновения не знал, что растопчет их. И вот мне кажется, что он многим тут обиделся… да и не могло быть иначе в его положении… Во-первых, он уж тем обиделся, что слишком при мне деньгам обрадовался и предо мною этого не скрыл. Если б обрадовался, да не очень, не показал этого, фасоны бы стал делать, как другие, принимая деньги, кривляться, ну тогда бы еще мог снести и принять, а то он уж слишком правдиво обрадовался, а это-то и обидно. Ах, Lise, он правдивый и добрый человек, вот в этом-то и вся беда в этих случаях! У него все время, пока он тогда говорил, голос был такой слабый, ослабленный, и говорил он так скоро-скоро, все как-то хихикал таким смешком, или уже плакал… право, он плакал, до того он был в восхищении… и про дочерей своих говорил… и про место, что ему в другом городе дадут… И чуть только излил душу, вот вдруг ему и стыдно стало за то, что он так всю душу мне показал. Вот он меня сейчас и возненавидел. А он из ужасно стыдливых бедных. Главное же, обиделся тем, что слишком скоро меня за своего друга принял и скоро мне сдался; то бросался на меня, пугал, а тут вдруг, только что увидел деньги, и стал меня обнимать. Потому что он меня обнимал, все руками трогал. Это именно вот в таком виде он должен был все это унижение почувствовать, а тут как раз я эту ошибку сделал, очень важную: я вдруг и скажи ему, что если денег у него недостанет на переезд в другой город, то ему еще дадут, и даже я сам ему дам из моих денег сколько угодно. Вот это вдруг его и поразило: зачем, дескать, и я выскочил ему помогать? Знаете, Lise, это ужасно как тяжело для обиженного человека, когда все на него станут смотреть его благодетелями… я это слышал, мне это старец говорил. Я не знаю, как это выразить, но я это часто и сам видел. Да я ведь и сам точно так же чувствую. А главное то, что хоть он и не знал до самого последнего мгновения, что растопчет кредитки, но все-таки это предчувствовал, это уж непременно. Потому-то и восторг у него был такой сильный, что он предчувствовал… И вот хоть все это так скверно, но все-таки к лучшему. Я так даже думаю, что к самому лучшему, лучше и быть не могло…
– Почему, почему лучше и быть не могло? – воскликнула Lise, с большим удивлением смотря на Алешу.
– Потому, Lise, что если б он не растоптал, а взял эти деньги, то, придя домой, чрез час какой-нибудь и заплакал бы о своем унижении, вот что вышло бы непременно. Заплакал бы и, пожалуй, завтра пришел бы ко мне чем свет и бросил бы, может быть, мне кредитки и растоптал бы как давеча. А теперь он ушел ужасно гордый и с торжеством, хоть и знает, что «погубил себя». А стало быть, теперь уж ничего нет легче, как заставить его принять эти же двести рублей не далее как завтра, потому что он уж свою честь доказал, деньги швырнул, растоптал… Не мог же он знать, когда топтал, что я завтра их ему опять принесу. А между тем деньги-то эти ему ужасно как ведь нужны. Хоть он теперь и горд, а все-таки ведь даже сегодня будет думать о том, какой помощи он лишился. Ночью будет еще сильнее думать, во сне будет видеть, а к завтрашнему утру, пожалуй, готов будет ко мне бежать и прощенья просить. А я‑то вот тут и явлюсь: «Вот, дескать, вы гордый человек, вы доказали, ну теперь возьмите, простите нас». Вот тут-то он и возьмет!
Алеша с каким-то упоением произнес: «Вот тут-то он и возьмет!» Lise захлопала в ладошки.
– Ах, это правда, ах, я это ужасно вдруг поняла! Ах, Алеша, как вы все это знаете? Такой молодой и уж знает, что в душе… Я бы никогда этого не выдумала…
– Его, главное, надо теперь убедить в том, что он со всеми нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас деньги берет, – продолжал в своем упоении Алеша, – и не только на равной, но даже на высшей ноге…
– «На высшей ноге» – прелестно, Алексей Федорович, но говорите, говорите!
– То есть я не так выразился… про высшую ногу… но это ничего, потому что…
– Ах, ничего, ничего, конечно ничего! Простите, Алеша, милый… Знаете, я вас до сих пор почти не уважала… то есть уважала, да на равной ноге, а теперь буду на высшей уважать… Милый, не сердитесь, что я «острю», – подхватила она тотчас же с сильным чувством. – Я смешная и маленькая, но вы, вы… Слушайте, Алексей Федорович, нет ли тут во всем этом рассуждении нашем, то есть вашем… нет, уж лучше нашем… нет ли тут презрения к нему, к этому несчастному… в том, что мы так его душу теперь разбираем, свысока точно, а? В том, что так наверно решили теперь, что он деньги примет, а?
– Нет, Lise, нет презрения, – твердо ответил Алеша, как будто уже приготовленный к этому вопросу, – я уж об этом сам думал, идя сюда. Рассудите, какое уж тут презрение, когда мы сами такие же, как он, когда все такие же, как он. Потому что ведь и мы такие же, не лучше. А если б и лучше были, то были бы все-таки такие же на его месте… Я не знаю, как вы, Lise, но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа. А у него и не мелкая, напротив, очень деликатная… Нет, Lise, нет тут никакого презрения к нему! Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь надо как за детьми ходить, а за иными как за больными в больницах…
– Ах, Алексей Федорович, ах, голубчик, давайте за людьми как за больными ходить!
– Давайте, Lise, я готов, только я сам не совсем готов; я иной раз очень нетерпелив, а в другой раз и глазу у меня нет. Вот у вас другое дело.
– Ах, не верю! Алексей Федорович, как я счастлива!
– Как хорошо, что вы это говорите, Lise.
– Алексей Федорович, вы удивительно хороши, но вы иногда как будто педант… а между тем, смотришь, вовсе не педант. Подите посмотрите у дверей, отворите их тихонько и посмотрите, не подслушивает ли маменька, – прошептала вдруг Lise каким-то нервным, торопливым шепотом.
Алеша пошел, приотворил двери и доложил, что никто не подслушивает.
– Подойдите сюда, Алексей Федорович, – продолжала Lise, краснея все более и более, – дайте вашу руку, вот так. Слушайте, я вам должна большое признание сделать: вчерашнее письмо я вам не в шутку написала, а серьезно…
И она закрыла рукой свои глаза. Видно было, что ей очень стыдно сделать это признание. Вдруг она схватила его руку и стремительно поцеловала ее три раза.
– Ах, Lise, вот и прекрасно, – радостно воскликнул Алеша. – А я ведь был совершенно уверен, что вы написали серьезно.
– Уверен, представьте себе! – отвела вдруг она его руку, не выпуская ее, однако, из своей руки, краснея ужасно и смеясь маленьким, счастливым смешком, – я ему руку поцеловала, а он говорит: «и прекрасно». – Но упрекала она несправедливо: Алеша тоже был в большом смятении.
– Я бы желал вам всегда нравиться, Lise, но не знаю, как это сделать, – пробормотал он кое-как и тоже краснея.
– Алеша, милый, вы холодны и дерзки. Видите ли‑с. Он изволил меня выбрать в свои супруги и на том успокоился! Он был уже уверен, что я написала серьезно, каково! Но ведь это дерзость – вот что!
– Да разве это худо, что я был уверен? – засмеялся вдруг Алеша.
– Ах, Алеша, напротив, ужасно как хорошо, – нежно и со счастьем посмотрела на него Lise. Алеша стоял, все еще держа свою руку в ее руке. Вдруг он нагнулся и поцеловал ее в самые губки.
– Это что еще? Что с вами? – вскрикнула Lise.
Алеша совсем потерялся.
– Ну, простите, если не так… Я, может быть, ужасно глупо… Вы сказали, что я холоден, я взял и поцеловал… Только я вижу, что вышло глупо…
Lise засмеялась и закрыла лицо руками.
– И в этом платье! – вырвалось у ней между смехом, но вдруг она перестала смеяться и стала вся серьезная, почти строгая.
– Ну, Алеша, мы еще подождем с поцелуями, потому что мы этого еще оба не умеем, а ждать нам еще очень долго, – заключила она вдруг. – Скажите лучше, за что вы берете меня, такую дуру, больную дурочку, вы, такой умный, такой мыслящий, такой замечающий? Ах, Алеша, я ужасно счастлива, потому что я вас совсем не стою!
– Стоите, Lise. Я на днях выйду из монастыря совсем. Выйдя в свет, надо жениться, это-то я знаю. Так и он мне велел. Кого ж я лучше вас возьму… и кто меня, кроме вас, возьмет? Я уж это обдумывал. Во-первых, вы меня с детства знаете, а во-вторых, в вас очень много способностей, каких во мне совсем нет. У вас душа веселее, чем у меня; вы, главное, невиннее меня, а уж я до многого, до многого прикоснулся… Ах, вы не знаете, ведь и я Карамазов! Что в том, что вы смеетесь и шутите, и надо мной тоже; напротив, смейтесь, я так этому рад… Но вы смеетесь как маленькая девочка, а про себя думаете как мученица…
– Как мученица? Как это?
– Да, Lise, вот давеча ваш вопрос: нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы так душу его анатомируем, – этот вопрос мученический… видите, я никак не умею это выразить, но у кого такие вопросы являются, тот сам способен страдать. Сидя в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать…
– Алеша, дайте мне вашу руку, что вы ее отнимаете, – промолвила Lise ослабленным от счастья, упавшим каким-то голоском. – Послушайте, Алеша, во что вы оденетесь, как выйдете из монастыря, в какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь, это очень, очень для меня важно.
– Про костюм, Lise, я еще не думал, но в какой хотите, в такой и оденусь.
– Я хочу, чтоб у вас был темно-синий бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа… Скажите, вы так и поверили давеча, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась?
– Нет, не поверил.
– О, несносный человек, неисправимый!
– Видите, я знал, что вы меня… кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было… удобнее…
– Еще того хуже! И хуже и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давеча, как вам прийти, загадала: спрошу у него вчерашнее письмо, и если он мне спокойно вынет и отдаст его (как и ожидать от него всегда можно), то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует, а просто глупый и недостойный мальчик, а я погибла. Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило: не правда ли, вы потому оставили в келье, что предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так чтобы не отдавать его? Так ли? Ведь так?
– Ох, Lise, совсем не так, ведь письмо-то со мной и теперь и давеча было тоже, вот в этом кармане, вот оно.
Алеша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали.
– Только я вам не отдам его, смотрите из рук.
– Как? Так вы давеча солгали, вы монах и солгали?
– Пожалуй, солгал, – смеялся и Алеша, – чтобы вам не отдавать письма, солгал. Оно очень мне дорого, – прибавил он вдруг с сильным чувством и опять покраснев, – это уж навеки, и я его никому никогда не отдам!
Lise смотрела на него в восхищении.
– Алеша, – залепетала она опять, – посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша?
– Хорошо, Lise, я посмотрю, только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?
– Как низости? В какой низости? Это то, что она подслушивает за дочерью, так это ее право, а не низость, – вспыхнула Lise. – Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью и у меня будет такая же дочь, как я, то я непременно буду за нею подслушивать.
– Неужели, Lise? Это нехорошо.
– Ах, Боже мой, какая тут низость? Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь и я бы подслушивала, то это низость, а тут родная дочь заперлась с молодым человеком… Слушайте, Алеша, знайте, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся, и знайте еще, что я все письма ваши буду распечатывать и всё читать… Это уж вы будьте предуведомлены…
– Да, конечно, если так… – бормотал Алеша, – только это нехорошо…
– Ах, какое презрение! Алеша, милый, не будем ссориться с самого первого раза, – я вам лучше всю правду скажу: это, конечно, очень дурно подслушивать, и, уж конечно, я не права, а вы правы, но только я все-таки буду подслушивать.
– Делайте. Ничего за мной такого не подглядите, – засмеялся Алеша.
– Алеша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить.
– С большою охотой, Lise, и непременно, только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной несогласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит.
– Так и нужно. Так знайте, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам и вам теперь же клятву в этом даю – во всем и на всю жизнь, – вскричала пламенно Lise, – и это со счастием, со счастием! Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать, ни разу и никогда, ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение… Слушайте, Алексей Федорович, почему вы такой грустный все эти дни, и вчера и сегодня; я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия, но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть, секретная может быть, а?
– Да, Lise, есть и секретная, – грустно произнес Алеша. – Вижу, что меня любите, коли угадали это.
– Какая же грусть? О чем? Можно сказать? – с робкою мольбой произнесла Lise.
– Потом скажу, Lise… после… – смутился Алеша. – Теперь, пожалуй, и непонятно будет. Да я, пожалуй, и сам не сумею сказать.
– Я знаю, кроме того, что вас мучают ваши братья, отец?
– Да, и братья, – проговорил Алеша, как бы в раздумье.
– Я вашего брата Ивана Федоровича не люблю, Алеша, – вдруг заметила Lise.
Алеша замечание это отметил с некоторым удивлением, но не поднял его.
– Братья губят себя, – продолжал он, – отец тоже. И других губят вместе с собою. Тут «земляная карамазовская сила», как отец Паисий намедни выразился, – земляная и неистовая, необделанная… Даже носится ли Дух Божий вверху этой силы – и того не знаю. Знаю только, что и сам я Карамазов… Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?
– Да, сказала.
– А я в Бога-то вот, может быть, и не верую.
– Вы не веруете, что с вами? – тихо и осторожно проговорила Lise. Но Алеша не ответил на это. Было тут, в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее.
– И вот теперь, кроме всего, мой друг уходит, первый в мире человек, землю покидает. Если бы вы знали, если бы вы знали, Lise, как я связан, как я спаян душевно с этим человеком! И вот я останусь один… Я к вам приду, Lise… Впредь будем вместе…
– Да, вместе, вместе! Отныне всегда вместе на всю жизнь. Слушайте, поцелуйте меня, я позволяю.
Алеша поцеловал ее.
– Ну теперь ступайте, Христос с вами! (И она перекрестила его.) Ступайте скорее к нему, пока жив. Я вижу, что жестоко вас задержала. Я буду сегодня молиться за него и за вас. Алеша, мы будем счастливы! Будем мы счастливы, будем?
– Кажется, будем, Lise.
Выйдя от Lise, Алеша не заблагорассудил пройти к госпоже Хохлаковой и, не простясь с нею, направился было из дому. Но только что отворил дверь и вышел на лестницу, откуда ни возьмись пред ним сама госпожа Хохлакова. С первого слова Алеша догадался, что она поджидала его тут нарочно.
– Алексей Федорович, это ужасно. Это детские пустяки и все вздор. Надеюсь, вы не вздумаете мечтать… Глупости, глупости и глупости! – накинулась она на него.
– Только не говорите этого ей, – сказал Алеша, – а то она будет взволнована, а это ей теперь вредно.
– Слышу благоразумное слово благоразумного молодого человека. Понимать ли мне так, что вы сами только потому соглашались с ней, что не хотели, из сострадания к ее болезненному состоянию, противоречием рассердить ее?
– О нет, совсем нет, я совершенно серьезно с нею говорил, – твердо заявил Алеша.
– Серьезность тут невозможна, немыслима, и во-первых, я вас теперь совсем не приму ни разу, а во-вторых, я уеду и ее увезу, знайте это.
– Да зачем же, – сказал Алеша, – ведь это так еще неблизко, года полтора еще, может быть, ждать придется.
– Ах, Алексей Федорович, это, конечно, правда, и в полтора года вы тысячу раз с ней поссоритесь и разойдетесь. Но я так несчастна, так несчастна! Пусть это все пустяки, но это меня сразило. Теперь я как Фамусов в последней сцене, вы Чацкий, она Софья, и представьте, я нарочно убежала сюда на лестницу, чтобы вас встретить, а ведь и там все роковое произошло на лестнице. Я все слышала, я едва устояла. Так вот где объяснение ужасов всей этой ночи и всех давешних истерик! Дочке любовь, а матери смерть. Ложись в гроб. Теперь второе и самое главное: что это за письмо, которое она вам написала, покажите мне его сейчас, сейчас!
– Нет, не надо. Скажите, как здоровье Катерины Ивановны, мне очень надо знать.
– Продолжает лежать в бреду, она не очнулась; ее тетки здесь и только ахают и надо мной гордятся, а Герценштубе приехал и так испугался, что я не знала, что с ним и делать и чем его спасти, хотела даже послать за доктором. Его увезли в моей карете. И вдруг в довершение всего вы вдруг с этим письмом. Правда, все это еще через полтора года. Именем всего великого и святого, именем умирающего старца вашего покажите мне это письмо, Алексей Федорович, мне, матери! Если хотите, то держите его пальцами, а я буду читать из ваших рук.
– Нет, не покажу, Катерина Осиповна, хотя бы и она позволила, я не покажу. Я завтра приду и, если хотите, я с вами о многом переговорю, а теперь – прощайте!
И Алеша выбежал с лестницы на улицу.
[16] За и против (лат.).
Итоговое произведение Достоевского — роман о главных вопросах мира, скрывающихся за детективным сюжетом. Порок здесь противостоит святости, надрыв — кротости, а слезинка ребёнка — властной карамазовщине.
комментарии: Варвара Бабицкая
О чём эта книга?
Последний роман Достоевского и завершающая часть
пятикнижия
«Великое пятикнижие» Фёдора Достоевского — распространённое в литературоведении совокупное обозначение его поздних романов, обладающих идейно-тематическим и поэтико-структурным сходством: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
, где писатель намечает современному обществу выход из мировоззренческого тупика и полемизирует с явлениями, которые считает язвами своего века: атеизмом, материализмом, утилитарной социалистической моралью, разложением семьи. Теософский трактат в оболочке детективного романа об отцеубийстве, первоначально задуманный как первая часть «Жития великого грешника», через соблазны приходящего к праведности. Три брата — Дмитрий, Иван и Алексей Карамазовы — спорят о вечных вопросах (есть ли бессмертие души? Руководит ли человеком свободная воля или одни законы природы? Существует ли Бог и Творец?), параллельно разрешая любовные и денежные коллизии. Как писал Достоевский
Николаю Любимову
Николай Алексеевич Любимов (1830–1897) — публицист, редактор. C начала 1860-х работал редактором в «Русском вестнике» Михаила Каткова и Павла Леонтьева. Готовил к выпуску многие романы Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Бесы»). С 1865 года Любимов преподавал физику в Московском университете, а в 1882 году стал членом Совета министра народного просвещения.
, своему редактору в журнале
«Русский вестник»
Литературный и политический журнал (1856–1906), основанный Михаилом Катковым. В конце 50-х редакция занимает умеренно либеральную позицию, с начала 60-х «Русский вестник» становится всё более консервативным и даже реакционным. В журнале в разные годы были напечатаны центральные произведения русской классики: «Анна Каренина» и «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Достоевского, «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенева, «Соборяне» Лескова.
: «Если удастся, то сделаю дело хорошее: заставлю сознаться, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлечённое, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех её зол».
Bettmann/Getty Images
Когда она написана?
Замысел своего итогового произведения Достоевский вынашивал ещё в 1860-е годы: поначалу он планировал создать цикл из двух романов — «Атеизм» и «Житие великого грешника», историю падения и воскресения человеческой души в контексте актуальных событий русской и мировой истории, противопоставив злободневным умонастроениям вечные проблемы добра и зла, веры и безверия. Воплотить, однако, он успел только первую часть эпопеи. Создавались «Братья Карамазовы» с апреля 1878-го по ноябрь 1880 года, в основном — в Старой Руссе, с которой во многом срисован вымышленный город Скотопригоньевск. Во время работы над первыми книгами романа, летом 1878 года, Достоевский потерял трёхлетнего сына Алексея, умершего от эпилептического припадка — болезни, унаследованной от отца. Тяжело переживая смерть мальчика, Достоевский вместе с философом
Владимиром Соловьёвым
Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) — философ, публицист. После защиты диссертации в 1874 году уехал в путешествие по Англии, Франции, Италии и Египту. В 1877 году переехал в Санкт-Петербург, где сблизился с Достоевским. Получил степень доктора философии за диссертацию «Критика отвлечённых начал». Соловьёв занимался развитием идеи всеединства сущего, ввёл концепцию Софии — Души Мира, выступал за объединение всех христианских конфессий. Соловьёв значительно повлиял на религиозную философию (Николая Бердяева, Сергея Булгакова, Павла Флоренского) и всю культуру Серебряного века.
посетил Оптину пустынь, где встретился со старцем преподобным Амвросием (Гренковым), после чего «вернулся утешенный и с вдохновением приступил к писанию
романа»
1
Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л.: Советский писатель, 1963.
. Жена писателя, Анна Григорьевна, полагала, что слова Амвросия повторяет в романе старец Зосима, утешая мать, потерявшую сына.
Работа над романом затягивалась по разным причинам, в частности из-за болезни Достоевского, вынудившей его отправиться на лечение в Эмс; примерно через три месяца после завершения публикации писатель умер.
РИА «Новости»
Как она написана?
Основной сюжет романа — детективный и мелодраматический, замешанный на нескольких пересекающихся любовных историях и денежных казусах, — перемежается вставными, отдельными по существу произведениями. Такова, например, книга шестая «Русский инок», содержащая жизнеописание и учение старца Зосимы, таковы «Мальчики», «поэма» Ивана Карамазова «Великий инквизитор», «Кана Галилейская». Сюда же — не имеющие вроде бы отношения к сюжету исповеди и манифесты героев, скажем три «Исповеди горячего сердца» Мити Карамазова («В стихах», «В анекдотах» и, наконец, «Вверх пятами»). Течение сюжета постоянно прерывается богословскими диспутами, которые ведутся разными героями и в разных регистрах — в келье старца Зосимы, «За коньячком» — в издевательском тоне между стариком Карамазовым и Смердяковым, Алёшей, Митей, Иваном и чёртом.
В романе исключительно важен фантастический элемент — ключевую роль играют сцены снов, галлюцинаторный разговор Ивана с чёртом, видение Алёши. Вообще реалистическим этот роман можно назвать скорее условно. Так, например, Михаил Бахтин объяснял «жизненно неправдоподобные и художественно неоправданные» сцены скандалов, которыми изобилуют романы Достоевского, и в частности «Братья Карамазовы» (скандал в келье старца Зосимы, в гостиной Катерины Ивановны и проч.), специфической «карнавальной» логикой художественного мира Достоевского. Как пишет Бахтин: «Карнавализация… позволяет раздвинуть узкую сцену частной жизни определённой ограниченной эпохи до предельно универсальной и общечеловеческой мистерийной сцены».
Другое свойство прозы Достоевского, по Бахтину, в её полифоничности: все исповедальные высказывания его героев «проникнуты напряжённейшим отношением к предвосхищаемому чужому слову о них, чужой реакции на их слово о себе». Всем героям «Карамазовых» свойственны «двойные мысли»: одна выражается в содержании их речи, другая, часто ими самими не осознаваемая, — в построении речи, в её интонациях и не всегда ясных паузах; материализацией этого внутреннего голоса становится, например, диалог Ивана с чёртом. Голос рассказчика, как отмечает исследователь, ничего не прибавляет к этой полифонии, становясь только одним из равноправных голосов.
Что на неё повлияло?
Ряд источников назван в романе прямо, устами героев: таковы древнеславянский апокриф «Хождение Богородицы по мукам» или «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго — к русскому переводу этого романа Достоевский написал в 1862 году предисловие, где назвал выраженную в нём идею основной мыслью всего искусства девятнадцатого столетия: «Это мысль христианская и высоконравственная, формула её — восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков». Не меньшее значение имели для Достоевского и «Отверженные» — «Братьев Карамазовых» можно рассматривать как своеобразную полемику с Гюго; скажем, вопрос Ивана о допустимости всеобщего счастья ценой смерти ребёнка — ответ на мнение Гюго, что смерть малолетнего Людовика XVII была оправдана высокой целью народного
благоденствия
2
Кийко Е. И. Достоевский и Гюго (Из истории создания «Братьев Карамазовых») // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 3. Л.: Наука, 1978. С. 166–172.
.
Михаил Бахтин указывает на огромное значение, которое имела для Достоевского диалогическая культура Вольтера и Дидро, восходящая к диалогам Сократа (в частности, в 1877 году, работая над «Братьями Карамазовыми», Достоевский планировал написать «русского
Кандида»
«Кандид, или Оптимизм» — повесть Вольтера, написанная, предположительно, в 1758 году. Рассказывает о странствиях по миру юноши Кандида, его возлюбленной Кунигунды и учителя Панглосса. Они становятся свидетелями сражений Семилетней войны, Лиссабонского землетрясения 1755 года, взятия Азова во время одной из русско-турецких войн и других событий. Вольтер высмеивает оптимистичное мировоззрение немецкого философа Готфрида Лейбница и вообще ставит под сомнение оптимистический пафос Просвещения: убеждение Панглосса, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров», в повести выглядит издёвкой. «Кандид» быстро стал необыкновенно успешным среди современников; считается, что его слог оказал большое влияние на Александр Пушкина и Гюстава Флобера.
, — возможно, этот замысел был воплощён в романе), а также творчество Гофмана с его фантастическими и сказочными мотивами.
Любят люди падение праведного и позор его
Фёдор Достоевский
Алёша Карамазов наделён чертами житийного героя: здесь и воспоминание о матери-блаженной, как бы препоручающей его Богородице, и стремление уйти от мира, и свойство возбуждать всеобщую любовь и самому любить всех, и бессребреничество, и «дикая, исступлённая стыдливость и целомудренность». Из житийной литературы в романе прямо упомянуто «Житие Алексея человека
Божия»
3
Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977.
. На религиозно-философскую концепцию романа повлияло как творчество других беллетристов — в особенности Виктора Гюго и Льва Толстого, — так и работы философов и религиозных мыслителей Владимира Соловьёва и
Николая Фёдорова
Николай Фёдорович Фёдоров (1828–1903) — философ, основатель русского космизма, автор сборника сочинений «Философия общего дела». По Фёдорову, главная задача человечества — подчинить себе природу ради победы над смертью, ради воскрешения всех усопших, причём не в метафорическом смысле, а в самом прямом. Чтобы добиться этого, людям необходимо преодолеть рознь и объединить веру с наукой.
.
Стало общим местом сравнение Ивана Карамазова с Фаустом Гёте и с шекспировским Гамлетом. Своеобразным лейтмотивом «Братьев Карамазовых» становится цитата из монолога Карла Моора («Разбойники» Шиллера): «Поцелуй в губы и кинжал в сердце» — её выкрикивает Фёдор Павлович во время скандала в келье старца Зосимы, повторяет Дмитрий, размышляя о ссоре Грушеньки с Катериной Ивановной; она, как отмечает исследователь, «превращается в своеобразный сценарий, в соответствии с которым строится встреча Алёши и Мити накануне суда и разговор Великого инквизитора с Христом».
Наконец, замечание Достоевского в его статье «Три рассказа Эдгара Поэ» можно справедливо отнести к его собственному методу: «Он почти всегда берёт самую исключительную действительность, ставит своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою поражающею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека!»
Как она была опубликована?
Роман публиковался по частям в литературном и политическом журнале Михаила Каткова «Русский вестник» в 1879–1880 годах. В декабрьской книжке «Русского вестника» за 1879 год было по просьбе писателя напечатано его письмо Каткову, где Достоевский просил у читателей прощения за задержку с публикацией: «Это письмо — дело моей совести. Пусть обвинения за неоконченный роман, если будут они, падут лишь на одного меня, а не коснутся редакции «Русского вестника», которую если и мог бы в чём упрекнуть, в данном случае, иной обвинитель, то разве в чрезвычайной деликатности ко мне как к писателю и в постоянной терпеливой снисходительности к моему ослабевшему здоровью…»
Помимо болезни писателя, задержки были связаны с тем, что план романа значительно менялся по мере работы над ним, некоторые книги выросли почти вдвое против задуманного, добавлялись отдельные, не предусмотренные первоначально главы и книги.
«Ну вот и кончен роман! Работал его три года, печатал два — знаменательная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги. Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен ещё 20 лет жить и писать», — писал Достоевский Николаю Любимову 8 ноября 1880 года, отправляя в редакцию «Русского вестника» эпилог романа. Отдельным двухтомным изданием «Братья Карамазовы» вышли в начале декабря 1880 года, успех был феноменальным — половина трёхтысячного тиража была раскуплена за несколько дней. Двадцати лет и возможности написать второй роман об Алёше Карамазове у автора, однако, не оставалось: вскоре Достоевский умер.
Как её приняли?
«Братья Карамазовы» взволновали общественность ещё до завершения работы, в глазах многих окончательно утвердив Достоевского в статусе духовного учителя. Вот как, например, писательница и сотрудница Достоевского Варвара Тимофеева описывала публичное чтение автором «Исповеди горячего сердца»:
…Это была мистерия под заглавием: «Страшный суд, или Жизнь и смерть»… Это было анатомическое вскрытие больного гангреною тела, — вскрытие язв и недугов нашей притуплённой совести, нашей нездоровой, гнилой, всё ещё крепостнической жизни… Пласт за пластом, язва за язвой… гной, смрад… томительный жар агонии… предсмертные судороги… И освежающие, целительные улыбки… и кроткие, боль утоляющие слова — сильного, здорового существа у одра умирающего. Это был разговор старой и новой России, разговор братьев Карамазовых — Дмитрия и Алёши.
По словам мемуаристки, если поначалу публика была удивлена и перешёптывалась: «Маниак!.. Юродивый!.. Странный…», то к концу была глубоко взволнована и наградила чтеца громовыми рукоплесканиями.
Художник Иван Крамской писал 14 февраля 1881 года Павлу Третьякову: «После «Карамазовых» (и во время чтения) несколько раз я с ужасом оглядывался кругом и удивлялся, что всё идёт по-старому, а что мир не перевернулся на своей оси. Казалось: как после семейного совета Карамазовых у старца Зосимы, после «Великого инквизитора» есть люди, обирающие ближнего, есть политика, открыто исповедующая лицемерие, есть архиереи, спокойно полагающие, что дело Христа своим чередом, а практика жизни своим: словом, это нечто до такой степени пророческое, огненное, апокалипсическое, что казалось невозможным оставаться на том месте, где мы были вчера, носить те чувства, которыми мы питались, думать о чём-нибудь, кроме страшного дня судного…» Подобные чувства разделяли многие читатели — как записал Достоевский 23 апреля 1880 года: «…Не дают писать… <…> Виноваты же в том опять-таки «Карамазовы». …Ко мне ежедневно приходит столько людей, столько людей ищут моего знакомства, зовут меня к себе — что я решительно здесь потерялся и теперь бегу из Петербурга!»
Критика отнеслась к роману менее благосклонно. Так,
Максим Антонович
Максим Алексеевич Антонович (1835–1918) — литературный критик, философ и публицист. С 1861 года был сотрудником журнала «Современник», в том числе руководителем его литературно-критического отдела, сменил в журнале Николая Добролюбова. Считался преемником философских идей Николая Чернышевского и популяризатором материалистических взглядов. Большинство его статей о литературе, философии и политике были острополемическими (например, статья «Асмодей нашего времени» об «Отцах и детях» Тургенева), особенно резко критик оппонировал почвенническим журналам Михаила и Фёдора Достоевских «Время» и «Эпоха».
упрекал
4
Антонович М. А. Избранные статьи. Философия. Критика. Полемика. Л.: Худ. лит-ра, 1938.
Достоевского в проповеди порабощения, которую ведут, каждый на свой лад, и Великий инквизитор, и старец Зосима, полагая, что «Братья Карамазовы» — тенденциозный «трактат в лицах»:
Автор, вероятно, вовсе не прибег бы к аллегории романа и изложил свою мысль только в трактате, если бы был уверен, что трактат так же сильно подействует на читателей и с таким же увлечением и азартом будет читаться и в том случае, если он не будет подправлен и сдобрен разными романтическими снадобьями и художественным перцем.
По мнению критика, Достоевский, возвратившись к литературной деятельности после ужасного опыта каторги, ударился в мистицизм, обратился к левому славянофильству, почвенничеству и против европейского образования и просвещения, которое русской интеллигенции следует отринуть вместе с гордыней и свободной волей и искать спасения в монастырском послушании.
Критик-народник
Николай Михайловский
Николай Константинович Михайловский (1842–1904) — публицист, литературовед. С 1868 года печатался в «Отечественных записках», а в 1877 году стал одним из редакторов журнала. В конце 1870-х сблизился с организацией «Народная воля», за связи с революционерами несколько раз высылался из Петербурга. Михайловский считал целью прогресса повышение уровня сознательности в обществе, критиковал марксизм и толстовство. К концу жизни стал широко известным публичным интеллектуалом и культовой фигурой в среде народников.
, отметив «отдельные места необыкновенной яркости и силы», пенял автору на «инквизиторский характер основной тенденции», «ненужную жестокость множества подробностей и вводных сцен, картин и образов» и, главное, «томительную скуку почти всего, что относится к старцу Зосиме и младенцу Алёше», сочтя, однако, что «именно в сфере мучительства художественное дарование Достоевского и достигло своей наивысшей силы. Только он портил дело излишеством, пересаливал, слишком уж терзал своих действующих лиц и своих
читателей»
5
Михайловский Н. Жестокий талант // Отечественные записки. 1882. № 9, 10.
.
Либеральный публицист Александр Градовский заключил, что у Достоевского есть «великий религиозный идеал, мощная исповедь личной нравственности, но нет даже намёка на идеалы
общественные»
6
Градовский А. Д. Мечты и действительность // Голос. 1880. 25 июня. № 174.
. Владимир Соловьёв, отвечая Михайловскому, вступился за писателя в заметке 1882 года «Несколько слов по поводу «жестокости»: «У него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускавший сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству Евангелием».
Константину Леонтьеву
Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) — философ, писатель, консервативный идеолог. Был военным врачом на Крымской войне, служил в русских консульствах на Крите, в албанском городе Янину, Салониках, работал в газете «Варшавский дневник», работал в Московском цензурном комитете. Последние несколько лет жизни жил в Оптиной пустыни, незадолго до смерти принял тайный постриг под именем Климент и переехал в Сергиев Посад, где скончался от пневмонии. Автор повестей, романов, публицистических сборников. Леонтьев в своих статьях критиковал либерализм, мещанство, выступал за сильную власть, «византизм» и союз России со странами Востока.
мысль о преобразовании мира путём индивидуального духовного подвига показалась противной «и здравому смыслу, и Евангелию, и естественным наукам»; «скучно до отвращения — пир всемирного однообразного братства», «поголовная однообразная
кротость»
7
Леонтьев К. Н. О всемирной любви, по поводу речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике // Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?». М.: Тип. Е. И. Погодиной, 1882.
. Обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев испытывал по тому же поводу настоящую тревогу — в письме
Екатерине Тютчевой
Екатерина Фёдоровна Тютчева (1835–1882) — фрейлина императрицы Марии Александровны, дочь поэта Фёдора Тютчева. Увлекалась журналистикой и переводами: например, перевела на английский язык проповеди митрополита Филарета, изданные в 1873 году в Лондоне. Дружила и активно переписывалась с государственным деятелем Константином Победоносцевым и многими интеллектуалами своего времени.
от 4 февраля 1882 года он писал: «Ведь они подлинно думают и проповедуют, что Достоевский создал какую-то новую религию любви и явился новым пророком в русском мире и даже в русской церкви».
Что было дальше?
Достоевский умер от туберкулёза лёгких 28 января (9 февраля) 1881 года, через два месяца после окончания публикации «Братьев Карамазовых». Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, гроб до могилы несли на руках. На надгробии писателя высекли слова из Евангелия от Иоанна: «Аще зерно пшеничное пад на земли не умрет, то едино пребывает; аще же умрет, мног плод сотворит». Те же слова в современном ему переводе Достоевский поставил эпиграфом к «Братьям Карамазовым».
«Карамазовы» были восприняты во всём мире как духовное завещание Достоевского и повлияли на литературу уже XX века — таких писателей, как Франц Кафка, Джеймс Джойс, Франсуа Мориак, Томас Манн (особенно «Доктор Фаустус»), Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Джон Стейнбек. Известно, что «Карамазовы» были последней книгой, которую читал Лев Толстой. О влиянии романа на свою жизнь и взгляды говорили Людвиг Витгенштейн, Мартин Хайдеггер, Альберт Эйнштейн. Альбер Камю посвятил Ивану Карамазову много строк в эссе «Человек бунтующий», Зигмунд Фрейд, называвший «Карамазовых» «величайшим романом из всех, когда-либо написанных», написал статью «Достоевский и отцеубийство», в которой трактовал не только сюжет романа, но и биографию Достоевского в свете Эдипова комплекса. «Братьев Карамазовых» до сих пор регулярно называют в числе своих любимых книг мировые знаменитости и политические лидеры. Особенной популярностью пользуется «Легенда о Великом инквизиторе», часто издающаяся как отдельная книга.
Отвлечённо ещё можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда
Фёдор Достоевский
Собственно, с работы Василия Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария» (1891) началось и научное осмысление романа в России. «Поэма» Ивана Карамазова стала вызовом для большинства русских религиозных философов рубежа веков — от Сергея Булгакова и Николая Бердяева до Семёна Франка и Льва Карсавина; глубокий анализ «Легенды», связанный, во-первых, с противопоставлением православия католичеству, во-вторых, с предчувствием будущего религиозного обновления, можно найти в книге Дмитрия Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». В советское и постсоветское время «Карамазовых» продолжали изучать с точки зрения текстологии, мифологических подтекстов и, конечно, философской этики: можно выделить работы Аркадия Долинина, Георгия Фридлендера, Валентины Ветловской, Владимира Кантора.
«Братья Карамазовы» неоднократно инсценировались и экранизировались. Самые ранние постановки запрещались цензурой, видевшей в романе «что-то нравственно ядовитое»; впервые поставить «Карамазовых» удалось в 1899 году, зато в XX и особенно XXI веке спектаклей по роману было множество — вплоть до балета и рок-оперы. Среди экранизаций стоит назвать трёхсерийную работу Ивана Пырьева, Михаила Ульянова и Кирилла Лаврова (двое актёров досняли фильм после смерти Пырьева) и «Мальчиков» 1990 года, где в эпизоде снялся правнук Достоевского Дмитрий. Ещё одна, скорее курьёзная экранизация — фильм 1958 года с Юлом Бриннером в роли Мити: в финале Иван и Алёша, подкупив кого следует, устраивают побег Мити с Грушенькой за границу.
«Братья Карамазовы». Режиссёр Ричард Брукс. США, 1958 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Ричард Брукс. США, 1958 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Ричард Брукс. США, 1958 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Иван Пырьев. СССР, 1968 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Мальчики». Режиссёры Юрий Григорьев, Ренита Григорьева. СССР, 1990 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
«Братья Карамазовы». Режиссёр Юрий Мороз. Россия, 2008 год
Есть ли у героев романа реальные прототипы?
Почти у всех. Брат писателя Андрей Достоевский в воспоминаниях рассказывает, что в деревне их отца жила «дурочка Аграфена», которая «претерпела над собою насилие и сделалась матерью
ребёнка»
8
Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л.: Изд. писателей в Ленинграде, 1930. С. 63.
, — прототип Лизаветы Смердящей. Анна Достоевская свидетельствует, что отдельные черты Ивана Карамазова взяты писателем от философа Владимира Соловьёва — его учение о всеединстве, о государстве-церкви, о божественном предопределении истории резюмируется в романе устами Ивана Карамазова (устно опровергающего этот комплекс идей, в написанной им статье о церковном суде парадоксальным образом поддерживающего). Соловьёв обличал безбожную западную цивилизацию и верил, что «великое историческое призвание России… есть призвание религиозное». В начале 1878 года Достоевский посещал в Петербурге его лекции «О Богочеловечестве» и подружился с ним, — по словам жены писателя, их отношения напоминали отношения старца Зосимы и Алёши Карамазова.
Но важнейший прототип, которому обязаны своим появлением «Братья Карамазовы», — товарищ Достоевского по омскому острогу, отставной подпоручик Дмитрий Ильинский, за отцеубийство приговорённый к двадцати годам каторжных работ. О нём писатель рассказывает в «Записках из Мёртвого дома» (1860):
Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства. Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал объявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провёл самым развратным образом. <…> Он не сознался; был лишён дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. <…> Факты были до того ясны, что невозможно было не верить.
Несмотря на то что все улики и общественное мнение указывали на виновность Ильинского, сам он в преступлении не сознался, и Достоевский «не верил этому преступлению» по психологическим причинам. Как сообщал писатель во второй части «Записок из Мёртвого дома» (1861), позднее невиновность Ильинского действительно «была обнаружена по суду, официально», и писатель никак не мог выбросить из головы эту историю жизни, смолоду загубленной таким ужасным образом. В 1874 году Достоевский набросал план произведения «Драма. В Тобольске…» о мнимом отцеубийце, осуждённом без вины, и его младшем брате (который и оказался настоящим преступником); развитие своё она получила в истории Дмитрия Карамазова. Туда же, вероятно, перекочевали некоторые подробности следственного дела Ильинского — исследователи отмечают, что велось оно «крайне пристрастно. Показания, свидетельствующие против обвиняемого, принимались следователем на веру и в дальнейшем фигурировали как неопровержимые факты; все же показания Дмитрия внушали следствию
сомнения»
9
Якубович И. Д. «Братья Карамазовы» и следственное дело Д. Н. Ильинского // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 2. Л.: Наука, 1976.
. Считается также, что определённые черты Дмитрия — любовь к кутежам, цыганам, бурные увлечения женщинами в сочетании с высокими романтическими порывами — были списаны с критика
Аполлона Григорьева
Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) — поэт, литературный критик, переводчик. С 1845 года начал заниматься литературой: выпустил книгу стихов, переводил Шекспира и Байрона, писал литературные обзоры для «Отечественных записок». С конца 1950-х годов Григорьев писал для «Москвитянина» и возглавлял кружок его молодых авторов. После закрытия журнала работал в «Библиотеке для чтения», «Русском слове», «Времени». Из-за алкогольной зависимости Григорьев постепенно растерял влияние и практически перестал печататься.
, с которым Достоевский близко сошёлся в 1860-е годы.
Владимир Соловьёв. Отдельные черты Ивана Карамазова взяты Достоевским от философа Владимира Соловьёва
Дмитрий Каракозов, совершивший покушение на Александра II. Один из возможных прототипов Алёши Карамазова
Амвросий Оптинский. Один из прототипов старца Зосимы
Кто убил старика Карамазова?
Ответ на этот вопрос распадается на две части: на ком лежит грех, то есть вина духовная, и кто преступник — то есть кто виноват фактически. Из текста следует, что убийца — Смердяков (у нас есть его прямое признание, психологический мотив и, наконец, самоубийство), а вдохновителем его выступил Иван. Более того, в письме к читательнице (до окончания журнальной публикации романа) Достоевский отвечает совершенно однозначно: «Старика Карамазова убил слуга Смердяков. Все подробности будут выяснены в дальнейшем ходе романа. Иван Фёдорович участвовал в убийстве лишь косвенно и отдалённо, единственно тем, что удержался (с намерением) образумить Смердякова… <…> Дмитрий Фёдорович в убийстве отца совсем
невинен»
10
Из письма к читательнице от 8 ноября 1879 года. Кийко Е. И. Примечания // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 15. Л.: Наука, 1976.
.
Однако в самом романе писатель отчего-то счёл нужным оставить на этот счёт некоторую неясность и простор для домыслов — знаменитое отточие в описании ночной сцены, где Дмитрий перелезает через ограду в сад, ожидая найти у отца Грушеньку:
Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити: «Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни!» <…> Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя и вдруг выхватил медный пестик из кармана…
……………………………………………………
Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда: как раз в то самое время проснулся на одре своём больной Григорий Васильевич.
Не «сторожил его», а «сторожил меня»: здесь звучит, по выражению Михаила Бахтина, чужое слово — рассказчик не говорит нам прямо, что Митя невиновен, а лишь цитирует его позднейшее показание. Как замечает в лекции о «Карамазовых» Владимир Набоков, Достоевский не только по всем правилам уголовного романа «осторожно подготавливает в читательском сознании необходимый ему портрет предполагаемого убийцы — Дмитрия», но и самая фраза о Боге, который «сторожил» Митю, «вместо того чтобы означать, как могло показаться вначале, будто ангел-хранитель вовремя остановил его на пути к преступлению, может также значить лишь то, что Бог разбудил старого слугу, чтобы тот смог увидеть и опознать удирающего убийцу».
Дмитрий утверждает, что невиновен (и ему сразу безоговорочно верит Грушенька, а вслед за ней и читатель), но абсолютно не верит и в виновность Смердякова, считая лакея слишком трусливым для такого предприятия:
Это болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом и которую прибьёт восьмилетний мальчишка. Разве это натура? Не Смердяков, господа, да и денег не любит, подарков от меня вовсе не брал… Да и за что ему убивать старика? Ведь он, может быть, сын его, побочный сын, знаете вы это?
Набоков отмечает и другую нестыковку: по признанию Смердякова, старика он убил пепельницей. Стремясь спасти Дмитрия, об этой важной улике Иван тем не менее на суде не упоминает ни разу, а ведь она могла бы разрешить все сомнения: «Надо было лишь осмотреть её как следует, установить, есть ли на ней следы крови, и сравнить её форму с очертаниями смертельной раны убитого».
Нужно заметить, что происхождение Смердякова могло бы, наоборот, стать серьёзнейшим мотивом. Старик Карамазов обидел всех своих детей: Дмитрия обокрал (остальных тоже, но их это не заботит), мать Алёши и Ивана свёл в могилу (но о матери вспоминает — и её напоминает — только Алёша), всех бросил на чужих людей, соперничает с Дмитрием за Грушеньку. Но все эти вины несравнимы с его виной перед последним, незаконным его сыном Смердяковым, чью мать он изнасиловал, а самого его не признал и сделал лакеем. Зато у Ивана нет никаких причин убивать отца. И всё же он виноват по суду совести — это не случайно.
Времени Бог мало дал, всего во дню определил только двадцать четыре часа, так что некогда и выспаться, не только покаяться
Фёдор Достоевский
Планируя в 1878 году произведение по мотивам истории братьев Ильинских («Драма. В Тобольске…»), Достоевский отметил в записной книжке: «Справиться, жена осуждённого в каторгу тотчас ли может выйти замуж за другого?» По замыслу драмы, невеста старшего из двух братьев, несправедливо осуждённого по обвинению в отцеубийстве, выходит замуж за младшего брата, который и оказывается настоящим убийцей; годы спустя младший брат раскаивается, признаётся в совершённом преступлении и просит оправданного старшего «быть отцом его детей» (коллизия с невестой вошла в роман в модифицированном виде — как история влюблённости Ивана Карамазова в Катерину Ивановну). В черновиках «Братьев Карамазовых» Иван Фёдорович не раз называется «Учёным» или «Убийцей». Таким образом, можно предположить, что первоначально Достоевский намеревался воспроизвести историю братьев Ильинских более последовательно, сделав убийцей Ивана; видимо, передумав, писатель ввёл в текст четвёртого «брата Карамазова» — Смердякова, фактического исполнителя преступления, которого Иван только «научил убить».
Как замечает литературовед Гурий Щенников: «Нравственная правда в заключительной книге романа по-настоящему проявляется лишь в позиции Дмитрия Карамазова, в том, что он — вопреки выводу адвоката: «убил, но не виновен» — отстаивает прямо противоположную мысль: «Не убил, но виновен». Митино самоосуждение утверждает приоритет не права, а правды, как понимал её Достоевский, — неумолимой жажды религиозного преображения, живущей в русском народе, которая выведет его на путь национального
спасения»
11
Щенников Г. К. Мысль национальная в романе «Братья Карамазовы» и функции повествования в сценах двух судов // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. СПб.: Наука, 1997.
. В свою очередь, философ и богослов Сергей Булгаков полагает, что хотя сам Иван мучится мыслью, что он есть нравственный виновник убийства, однако это скорее проявление подступающего безумия, чем реальное положение дел, и автор оправдывает его устами Алёши — которого, по мнению философа, можно счесть таким же попустителем, как и
Ивана
12
Булгаков С. Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века. СПб.: Худ. лит., 1997.
. Как бы то ни было, странная неопределённость автора в вопросе, кого из героев назначить убийцей, объясняется тем, что возложить вину на одного конкретного героя значило бы свести
теодицею
Теодицея, буквально «оправдание Бога», — философские попытки объяснить существование зла в мире, созданном Богом. Термин ввёл в XVIII веке немецкий философ Готфрид Лейбниц, объяснявший зло как необходимую ступень разнообразия в гармоничном мире.
к детективу.
Правда ли, что Алёша Карамазов — революционер?
«Братья Карамазовы» поначалу задумывались как первая часть дилогии, которую должны были составить два романа, «Атеист» и «Житие великого грешника». В авторском предисловии главным героем книги недвусмысленно назван Алёша, однако из всех героев именно он совершенно неубедительный грешник, а вернее было бы сказать, что прямо праведник. Более того: и главным героем можно назвать его разве что с большой натяжкой, ведь основные нравственные испытания и сюжетные коллизии приходятся на долю его брата Дмитрия.
В следующей, ненаписанной части эпопеи действие должно было развиваться двадцать лет спустя: Дмитрий возвратился бы с каторги, а Алёша, вышедший из монастыря по завещанию старца Зосимы, пережил бы мирские испытания и драму с Лизой Хохлаковой — и, как считают многие исследователи, ещё не такие метаморфозы.
Леонид Гроссман
Леонид Петрович Гроссман (1888–1965) — литературовед, писатель. Преподавал в Московском литературно-художественном институте им. Брюсова, работал в Госиздате и Государственной Академии художественных наук. Автор биографий Пушкина и Достоевского для серии «ЖЗЛ».
, в частности,
предполагает
13
Гроссман Л. П. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1962.
, что в Алёшином лице Достоевский собирался написать «жертвенный образ революционера-мученика». Пройдя в своём поиске истины через увлечение религией, он ищет нового поля полезной деятельности и нового подвига: «Его увлекает идея цареубийства как возбуждения всенародного восстания, в котором потонут все бедствия страны. Созерцательный инок становится активнейшим политическим деятелем. Он принимает участие в одном из покушений на Александра II. Он всходит на эшафот. Главный герой эпопеи о современной России раскрывает трагедию целой эпохи с её обречённой властью и жертвенным молодым поколением».
Эта теория согласуется с замечанием самого Достоевского, что религия не была исключительным призванием его героя: «Алёша был вовсе не фанатик, и, по-моему по крайней мере, даже и не мистик вовсе. Заранее скажу моё полное мнение: был он просто ранний человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из мрака мирской злобы к свету любви души его». В общественной атмосфере конца 1870-х годов идеалы самых искренних и пылких людей лежали совсем на другой дороге, и Достоевский это понимал, хотя и не одобрял.
Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться
Фёдор Достоевский
Издатель Алексей Суворин
вспоминает
14
Суворин А. С. Дневник. Пг.: Изд-во Л. Д. Френкеля, 1923.
, как зашёл к Достоевскому 20 февраля 1880 года, в день покушения народовольца Ипполита Млодецкого на временного генерал-губернатора Санкт-Петербурга князя Лорис-Меликова. Писатель, только что оправившийся от очередного припадка, набивал за столом папиросы — о покушении ни он, ни Суворин ещё не знали, однако разговор скоро перешёл на политические преступления вообще и на взрыв в Зимнем дворце в особенности. Достоевского особенно занимало отношение общества к подобным преступлениям: «Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться». Достоевский сказал, что, узнай он заблаговременно о готовящемся
взрыве в Зимнем дворце
Покушение движения «Народная воля» на императора Александра II: 5 февраля 1880 года народовольцы взорвали бомбу в подвале императорского дворца. В результате взрыва в нижнем этаже дворца погибли 11 военнослужащих нижних чинов лейб-гвардии Финляндского полка, нёсших в тот день караул во дворце. Ещё 56 человек были ранены. Александр II не пострадал.
, он тем не менее не пошёл бы доносить, хотя это ужас и преступление: «Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально? У нас всё ненормально, оттого всё это происходит, и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых». Ответом на подобные размышления, как свидетельствует дальше Суворин, и должен был бы стать роман, «где героем будет Алёша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…»
Неделю спустя
великий князь Константин Константинович
Константин Константинович Романов (1858–1915) — великий князь, генерал-адъютант, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. С 1889 года — президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, с 1910 года — генерал-инспектор военно-учебных заведений. Автор множества стихов и романсов, а также переводов Шиллера, Гёте и Шекспира. Публиковался под поэтическим псевдонимом К. Р. Творчество Константина Константиновича высоко ценили композитор Пётр Чайковский и поэт Афанасий Фет — последний даже позволял К. Р. редактировать свои стихи.
записал в дневнике, что Достоевский ходил смотреть на казнь Млодецкого; и если самому князю «было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела», то небрезгливость писателя объяснялась его интересом ко всему, «что касается человека, всем положениям его жизни, радости и муки». Далее К. Р. предполагает, что Достоевским могло двигать и желание вновь пережить опыт собственной несостоявшейся казни, но в свете приведённых выше свидетельств можно предположить, что писатель собирал материал для
романа
15
Дневник великого князя Константина Константиновича (К. Р.). 1911–1915. М.: ПРОЗАиК, 2013.
.
Почему в романе так много детей?
Детские образы играют в «Братьях Карамазовых» важнейшую символическую роль. Так, Иван Карамазов «возвращает билет» на вход в Царство Божие, в гармонию, купленную ценой детских слёз. Дмитрий переживает духовное возрождение, увидев сон про погорелую деревню и исхудавшую крестьянку с плачущим младенцем на руках: «Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от чёрной беды, почему не накормят дитё?» — вопрошает Митя, причём вопрос его, как и у Ивана, относится, конечно, не к несправедливости социального устройства, а ко всему миропорядку: он безвинно идёт на каторгу, как Христос на крест, чтобы искупить своим страданием сбой в мироздании.
Однако не менее важны в романе и реальные дети — в первую очередь гимназист Коля Красоткин.
На главе «Мальчики», при всём её трагическом содержании (смерти Илюшечки Снегирёва), читатель получает передышку после предыдущих «исступлённых» глав: нас как будто перемещают в пласт реальности, от кипения фантастических идей к живым людям. Красоткин — персонаж комичный и симпатичный одновременно. Он, скажем, любит задирать прохожих мужиков и рыночных торговок — как сказали бы мы сегодня, троллить:
— Здравствуй, Наташа, — крикнул он одной из торговок под навесом.
— Какая я тебе Наташа, я Марья, — крикливо ответила торговка, далеко ещё не старая женщина.
— Это хорошо, что Марья, прощай.
— Ах ты пострелёнок, от земли не видать, а туда же!
— Некогда, некогда мне с тобой, в будущее воскресенье расскажешь, — замахал руками Коля, точно она к нему приставала, а не он к ней.
При этом Колю занимают серьёзные материи, с которыми он знаком с чужих слов. Он «учит и развивает» Илюшечку («Я имел в виду вышколить характер, выравнять, создать человека») так же, как самого его «развивает» Ракитин, набивая его голову пустыми фразами. Он фактически повторяет идеи Ивана Карамазова, только в бесконечно сниженном и пародийном виде: «Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество? <…> Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист», — и, главное, сходится с автором поэмы о Великом инквизиторе в трактовке образа Христа: «Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль… Это даже непременно».
К Коле Красоткину восходит, вероятно, неизменный образ русской юмористики страшных пореволюционных годов — все эти до времени повзрослевшие дети, как, например, маленькая розовая девочка из фельетона Аркадия Аверченко с говорящим названием «Трава, примятая сапогом»:
Она потёрлась порозовевшей от ходьбы щёчкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:
— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?
Коля мнителен, как большинство подростков, и здесь видится сниженное и забавное отражение болезненной, до уничижения доходящей гордости многих героев Достоевского: ведь и старик Карамазов строил из себя шута «от мнительности». У тринадцатилетнего мальчика эта черта, конечно, забавна:
Про меня, например, есть клевета, что я на прошлой неделе с приготовительными в разбойники играл. То, что я играл, — это действительность, но что я для себя играл, для доставления себе самому удовольствия, то это решительно клевета. Я имею основание думать, что до вас это дошло, но я не для себя играл, а для детворы играл…
Но в его комичной гордости, от которой он готов «уничтожить весь порядок вещей» при мысли, что весь мир над ним смеётся, уже просвечивает совсем не забавная душевная болезнь Лизы Хохлаковой (всего годом старше Коли!), которая признаётся Алёше, что ей хочется «беспорядка» и чтобы «нигде ничего не осталось», наделать «ужасно много зла», чтобы все показывали на неё пальцами (и фантазирует о том, как она распяла бы маленького мальчика и смотрела на его агонию, поедая ананасный компот). «Желторотым мальчиком» оказывается в лучшую свою минуту и Иван Карамазов, который — «разуверься в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос» — способен радоваться «клейким листочкам». Дети — воплощение невинной человеческой природы, которую на наших глазах искажают вредные умствования.
«Мальчики» из романа должны были, предположительно, стать героями второй, ненаписанной части эпопеи, где они появились бы уже взрослыми людьми — но не искорёженными, как Иван Карамазов, а уцелевшими духовно благодаря своевременной встрече с Алёшей. Коля Красоткин, носящий в себе в зачатке все соблазны взрослых героев романа, в конце его мечтает «принести себя в жертву за правду», «умереть за всё человечество» — на Илюшиной могиле Алёша напутствует двенадцать гимназистов, как двенадцать апостолов, на жизнь, полную деятельной христианской любви. Как писал Достоевский Николаю Любимову, своим романом он хотел заставить общество сознаться, «что чистый, идеальный христианин — дело не отвлечённое, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее и что христианство есть единственное убежище Русской Земли ото всех её зол». Таким образом, Достоевский рисует собственную социальную утопию, противопоставленную антиутопии Великого инквизитора, как отмечал Бердяев, вскоре воплотившейся в русской революции.
Братья Карамазовы — разные грани одного сознания?
Достоевского не раз упрекали в неестественности создаваемых им положений и нереалистичности героев. Его романы кишат героями-двойниками, ведущими между собою споры или вторящими друг другу как эхо: не живыми, правдоподобными людьми, а экзальтированными «говорящими головами» — проводниками авторских идей. «Братья Карамазовы» не исключение. Например, «новый человек» Ракитин, пародийный либерал и прогрессист, отравляет неокрепший разум Коли Красоткина так же, как Иван растлевает ум Смердякова. Ещё более сниженный двойник Ивана — Смердяков, презирающий русский народ за глупость и в карикатурном виде почитающий западную культуру.
Особенное место в этой игре отражений занимает, однако, Алёша Карамазов.
С его фигурой связано два парадокса. Первый состоит в том, что формально он — главный герой, но на практике его роль чисто посредническая: собственная его история — потрясение от «провонявшего» старца Зосимы и роман с Лизой Хохлаковой — занимает в событийной канве мало места. Зато его ушами мы слышим Митину «исповедь горячего сердца», «надрыв» штабс-капитана Снегирёва, «Легенду о Великом инквизиторе», сочинённую Иваном, поучения старца. Ему Грушенька рассказывает притчу о луковке, превращаясь на его глазах в кающуюся Марию Магдалину, притом что сам он остаётся бездеятелен и почти безгласен.
Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой
Фёдор Достоевский
Второй парадокс состоит в том, что Алёша назван Достоевским «великим грешником», хотя ничто в нём не заслуживает такой аттестации. Да и «чудаком», как характеризует его автор в предисловии, его — на фоне его беснующихся родственников — назвать трудно. И хотя «Братья Карамазовы» — только первая часть неосуществлённой дилогии, но и во второй, если верить свидетельствам жены и друзей писателя, ничто, совершённое Алёшей, не шло бы в сравнение с выходками его родственников. Однако если посмотреть на роман не как на произведение реалистическое, а как на своеобразную мистерию, в которой разные страсти человеческие оказываются олицетворены, всё встаёт на свои места.
В черновике письма к редактору Достоевский писал о своих героях: «Совокупите все эти 4 характера — и вы получите, хоть уменьшенное в 1000-ю долю, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России».
Исследователь
Константин Мочульский
Константин Васильевич Мочульский (1892–1948) — литературовед. Преподавал литературу в Петроградском и Новороссийском университетах. С 1919 года в эмиграции — был профессором Софийского университета, Сорбонны, Свято-Сергиевского богословского православного института. Сотрудничал с эмигрантскими изданиями «Русская мысль», «Современные записки», «Последние новости». Автор важной монографии о Достоевском.
полагает
16
Мочульский К.: Достоевский. Жизнь и творчество. Глава 23. «Братья Карамазовы»
, что «Братья Карамазовы» — синтез творчества Достоевского и его исповедь, причём Дмитрий, Иван и Алёша воплощают три этапа духовного пути самого писателя: пылкий Дмитрий, декламирующий «Гимн к радости», воплощает романтический период жизни автора и воспоминание о годах каторги, Иван — «эпоху дружбы с Белинским и увлечения атеистическим социализмом», Алёша же — символический образ писателя в последние годы жизни, после духовного перерождения:
Писатель изображает трёх братьев как духовное единство. Это — соборная личность в тройственной своей структуре: начало разума воплощается в Иване: он логик и рационалист, прирождённый скептик и отрицатель; начало чувства представлено Дмитрием: в нём «сладострастье насекомых» и вдохновение эроса; начало воли, осуществляющей себя в деятельной любви как идеал, намечено в Алёше. Братья связаны между собой узами крови, вырастают из одного родового корня: биологическая данность — карамазовская стихия — показана в отце Фёдоре Павловиче. Всякая человеческая личность несёт в себе роковое раздвоение: у законных братьев Карамазовых есть незаконный брат Смердяков: он их воплощённый соблазн и олицетворённый грех.
Смердяков — орудие своих старших братьев, сознательно или несознательно желавших смерти отца (как приземлённо, но справедливо отмечает исследователь Николай Караменов, и Алексей, и Иван были предупреждены о готовящемся преступлении и не предотвратили его, и что, кроме того, оба они выиграли от смерти отца, поделив наследство, на которое каторжник Дмитрий претендовать не
сможет)
17
Караменов Н. Волшебные дары Смердякова // Новый берег. 2016. № 52.
. Они толкнули Смердякова на преступление: один — своей разлагающей мыслью, другой — разрушительной страстью, третий — бездействием. В определённом смысле историю четырёх братьев можно прочитать как борьбу, происходящую в одном сознании, где Дмитрий — инстинкты, Иван — разум, Алексей — сердце, а Смердяков — что-то вроде подсознания. Михаил Бахтин, анализирующий «Братьев Карамазовых» совсем в другой логике, тем не менее пишет, что в диалогах со Смердяковым Иван постепенно с ужасом осознаёт собственные вытесненные мысли: «Смердяков и овладевает постепенно тем голосом Ивана, который тот сам от себя скрывает. Смердяков может управлять этим голосом именно потому, что сознание Ивана в эту сторону не глядит и не хочет глядеть. Он добивается наконец от Ивана нужного ему дела и слова» — и с удовлетворением резюмирует: «…С умным человеком и поговорить любопытно».
В результате этой борьбы инстинкты обузданы (Митя идёт на каторгу), бездушный разум посрамлён (Иван сходит с ума), грех повержен (Смердяков накладывает на себя руки), а богочеловек Достоевского, преодолевший свои скверные стороны и влекомый сердцем, в Алёшином лице идёт через искушения к праведности.
Что такое карамазовщина?
«Карамазовщина» всеми героями романа воспринимается в первую очередь как сладострастие. Манифест карамазовщины — монолог Фёдора Павловича, обращённый к сыновьям: «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот моё правило! <…> По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чёрт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдёшь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня
мовешек
От французского слова mauvais — «дурной». Здесь — девушка малопривлекательной наружности.
не существовало…» Однако это, похоже, только одна из форм проявления карамазовщины: как ни отвратителен Фёдор Павлович своим сыновьям в этот момент, у всех у них в жилах течёт его кровь, а значит, карамазовщина — явление как минимум неоднозначное. Литературовед Гурий Щенников
определил
18
Щенников Г. К. Сатира и трагедия как жанровые составные русского классического романа: «Господа Головлёвы», «Братья Карамазовы» // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007.
её как огромную витальную силу, которая у Фёдора Павловича проявляется в старческой чувственности, у Дмитрия — в бурных страстях; не до конца понятно, на что намекает Алёша, признаваясь: «И я Карамазов», но характер его по замыслу в романе ещё вполне не раскрыт; Иван сублимирует ту же витальность в чрезмерно интенсивной интеллектуальной деятельности.
Лев Карсавин
Лев Платонович Карсавин (1882–1952) — религиозный философ и историк-медиевист. Преподавал в Петербургском университете, Императорском Санкт-Петербургском историко-филологическим институте и на Бестужевских курсах. Был одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации — общественной организации петербургских интеллигентов, лояльных к Октябрьской революции, но полагавших, что вместе с ней необходима и революция духовная. В 1922 году был выслан из России на «философском пароходе», затем жил во Франции и Литве. В своих философских работах развивал идеи философии всеединства Владимира Соловьёва применительно к проблеме личности, методологии истории, гносеологии и этике, стремясь к созданию целостной системы христианского мировоззрения.
объясняет в статье с говорящим названием «Фёдор Павлович Карамазов как идеолог
любви»
19
Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. Пб.: 15 гос. типография (бывш. Голике и Вильборг), 1922.
, что, как бы ни был отвратителен в своём сладострастии старик Карамазов, не гнушающийся изнасиловать нищую дурочку, у него есть дар видеть то, чего не видят другие: индивидуальность всякого творения. Его садистическое увлечение матерью Ивана и Алёши предполагает способность остро чувствовать её невинность: «Сама жажда осквернить понятна лишь на почве острого ощущения того, что оскверняется. И восприятие чистоты (т. е. сама чистота) должно было находиться в сознании Фёдора Павловича, в известном отношении быть им самим
»
20
Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. Пб.: 15 гос. типография (бывш. Голике и Вильборг), 1922.
. Он попирает нечто лучшее и святое, влекущее его к себе и любимое.
Совершенно по отцовским стопам идёт, на первый взгляд, Митя, всегда любивший «глухие и тёмные закоулочки», «самородки в грязи»: «…Любил разврат, любил и срам разврата. Любил жестокость. Разве я не клоп, не злое насекомое? сказано — Карамазов!» Ракитин говорит о нём: «Пусть он и честный человек, Митенька-то, но сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть». Однако Ракитин — материалист, полагающий, что человечество можно любить и без Бога, а хлопотать человеколюбцу следует отнюдь не о «философиях», а о расширении гражданских прав и о том, «чтобы цена на говядину не возвысилась». Противопоставляя практическую заботу о человечестве сладострастию, он не имеет представления о красоте. Митя же восприимчив к красоте — и «земляная карамазовская сила» в нём благодаря этому преображается в восторг и высшую любовь. Митино интуитивное постижение «благой природы», дающей жизнь и радость и по существу своему безгрешной, выражается через шиллеровский «Гимн к радости», который он поёт из глубины позора:
Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чёртом, но я всё-таки и Твой сын. Господи, и люблю Тебя и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть.
Антонович, издеваясь над неестественностью характеров у Достоевского, точно замечает, что Митя, при всём своём дебоширстве и неоконченном гимназическом курсе, «был замечательным религиозным философом и мистиком, и многие его суждения буквально были согласны с поучениями старца Зосимы» (как язвительно добавляет критик, его «излияния были до того беспорядочны и дики, до того бурны и энтузиастичны, что автор заставлял его в это время попивать коньячок, чтобы излияния казались естественнее»). Переживания Мити и впрямь очень напоминают поучение старца Зосимы, призывавшего: «Люби повергаться на землю и лобызать её. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби, ищи восторга и исступления сего. Омочи землю слезами радости твоея и люби сии слёзы твои. Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, великий, да и не многим даётся, а избранным». Завет старца буквально выполняет Алёша в главе «Кана Галилейская», где он, преодолев духовный кризис, исступлённо целует землю. Параллелью к этой сцене звучит мечта Ивана о поездке в Европу: «Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними». Как заметил Сергей Булгаков, «вся европейская культура, которую он так умеет ценить и чтить, в настоящем представляется ему дорогим покойником». По Достоевскому, мысль, не одухотворённая страстью и радостью жизни, мертва. Однако и у Ивана, бесплотного софиста, чисто карамазовская «исступлённая и неприличная, может быть» жажда жизни, которую не может победить никакое отчаяние, становится путём спасения вопреки логике: «Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек…»
Единственный отпрыск старика Карамазова, не унаследовавший этой «земляной силы», — презирающий женщин Смердяков со своим «скопческим сухим лицом».
И великому грешнику Фёдору Карамазову великий праведник старец Зосима даёт лишь один совет: «Не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь всё и выходит», с чем тот соглашается: «От мнительности одной и буяню». Парадоксальным образом, хотя карамазовская витальность становится причиной многих бед, только она и может, по Достоевскому, спасти человека — она прекрасна и естественна, если не искажена играми холодного ума.
список литературы
- Антонович М. А. Избранные статьи. Философия. Критика. Полемика. Л.: Худ. лит., 1938.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советский писатель, 1963.
- Булгаков С. Н. Иван Карамазов (в романе Достоевского «Братья Карамазовы») как философский тип // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века. СПб.: Худ. лит., 1997.
- Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977.
- Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.
- Градовский А. Д. Мечты и действительность (По поводу речи Ф. М. Достоевского) // Голос. 1880. 25 июня. № 174. С. 1–2.
- Гроссман Л. П. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1962.
- Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М.: ГАХН, 1925.
- Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. М.; Пг.: ГИЗ, 1922.
- Дневник великого князя Константина Константиновича (К. Р.). 1911–1915. М.: ПРОЗАиК, 2013.
- Долинин А. С. Последние романы Достоевского. Как создавались «Подросток» и «Братья Карамазовы». М.; Л.: Советский писатель, 1963.
- Достоевская А. Г. Воспоминания о Ф. М. Достоевском / Подг. текста, примеч. С. В. Белова, В. А. Туниманова. М.: Правда, 1987.
- Достоевский Ф. М. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883.
- Караменов Н. Волшебные дары Смердякова // Новый берег. 2016. № 52.
- Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. Пб.: 15 гос. типография (бывш. Голике и Вильборг), 1922.
- Кийко Е. И. Достоевский и Гюго (Из истории создания «Братьев Карамазовых») // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 3. Л.: Наука, 1978. С. 166–172.
- Кийко Е. И. Примечания // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 15. Л.: Наука, 1976. С. 411.
- Лихачёв Д. С. В поисках выражения реального // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 1. Л.: Наука, 1974. С. 5–13.
- Михайловский Н. К. Жестокий талант // Михайловский Н. К. Литературная критика: Статьи о русской литературе XIX—начала XX века /Сост., подг. текста, вступ. ст., комм. Б. Аверина. Л.: Худ. лит., 1989. С. 153–234.
- Мочульский К. В. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1980.
- Розанов В. В. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. СПб.: Типо-литогр. и нотопеч. С. М. Николаева, 1894.
- Суворин А. С. Дневник. Пг.: Изд-во Л. Д. Френкеля, 1923.
- Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст. Б. Рюрикова. М.: Худ. лит., 1964.
- Фридлендер Г. М. Примечания // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 15. Л.: Наука, 1976. С. 399–410.
- Щенников Г. К. Мысль национальная в романе «Братья Карамазовы» и функции повествования в сценах двух судов // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 14. СПб.: Наука, 1997. С. 164–170.
- Щенников Г. К. Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» как явление национального самосознания. Челябинск: Металл, 1996.
- Щенников Г. К. Сатира и трагедия как жанровые составные русского классического романа: «Господа Головлёвы», «Братья Карамазовы» // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»: современное состояние изучения. М.: Наука, 2007. С. 687–694.
- Якубович И. Д. «Братья Карамазовы» и следственное дело Д. Н. Ильинского // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Г. М. Фридлендера. Т. 2. Л.: Наука, 1976. С. 119–124.
23 июля 2018Литература, История
Был ли у Мити Карамазова шанс получить оправдательный приговор по делу об убийстве отца? Почему решение по делу принимали «мужички»? Как прокурор добился победы? И в каком году все это произошло? Отвечаем на эти и другие вопросы о последнем романе Достоевского
1. Тайна хронологии
В «Братьях Карамазовых» нет точного указания на год, в котором происходит действие романа. Со слов рассказчика мы только знаем, что дело было 13 лет назад:
«Я бы, впрочем, не пускался в эти весьма нелюбопытные и смутные объяснения и начал бы просто-запросто без предисловия: понравится — так и так прочтут; но беда в том, что жизнеописание-то у меня одно, а романов два Достоевский задумывал дилогию; «Братья Карамазовы» — первый роман из нее.. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент. Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя».
О каком времени идет речь? Чтобы узнать это, обратимся к Ивану Карамазову. Рассказчик сообщает нам, что в самом начале романа ему 23 года. Также мы знаем, что несколькими годами ранее он написал статью «на поднявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде». Речь идет о судебной реформе 1864 года: по ней на заседания суда стали пускать публику, обязательными стали выступления прокурора и адвоката, была введена коллегия присяжных, которые принимали решение исходя из представленных улик и доводов обеих сторон. Кроме того, вводилась процедура предварительного следствия — сбора улик и показаний независимым представителем суда (судебным следователем). В обществе и прессе начались горячие обсуждения церковного суда: вырастет ли в нем роль государства, или он останется под контролем Церкви. В одном из последних номеров журнала «Эпоха» за 1864 год, который издавал Достоевский, должен был появиться отклик юриста Осипа Филиппова, но из-за «резкой критики недавно изданного законоположения» его запретила цензура. Скорее всего, Иван Карамазов высказался по поводу реформы примерно в то же время. Поэтому его статья обратила на себя «внимание даже и неспециалистов».
Кроме того, со слов рассказчика мы знаем, что Иван Карамазов написал эту статью, окончив университет, и неожиданная известность помешала его планам воспользоваться наследством и уехать за границу. Доступ к наследству он получил, став совершеннолетним, а в России XIX века это происходило в 21 год. Университет тогда оканчивали примерно в том же возрасте. Получается, на момент написания статьи в 1864 году ему как раз был 21 год, а 23 ему исполнилось бы в 1866-м. Значит, действие «Братьев Карамазовых» разворачивается в 1866 году.
Верна ли в этом случае подсказка про 13 лет из начала романа? Да. 1866 плюс 13 — получается 1879 год. Как раз в этом году «Карамазовы» начали печататься в журнале «Русский вестник». Интересно, что к 1860-м относятся сюжеты всех романов Достоевского, где есть убийства: это «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». Как будто кровавые резонансные преступления, как и молодые герои-идеологи, доводящие себя до помешательства, стали знаком новой пореформенной эпохи.
2. Тайна «современной матери»
В день убийства Федора Павловича Карамазова его сын Митя ищет, у кого бы занять денег. Среди прочих он приходит к Екатерине Осиповне Хохлаковой, матери больной девочки Лизы. Хохлакова пытается втянуть его в разговор о литературе, экономике и политике (а денег в итоге не дает):
«Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки: „Обнимаю и целую вас, мой писатель, за современную женщину, продолжайте“. И подписалась: „Мать“. Я хотела было подписаться „современная мать“ и колебалась, но остановилась просто на матери: больше красоты нравственной, Дмитрий Федорович, да и слово „современная“ напомнило бы им „Современник“…»
Хохлакова — едва ли не самый комичный герой «Карамазовых». Такое впечатление создается за счет особой речи с частыми восклицаниями, привычкой перебивать других героев, уходить от основной темы разговора, а также, как ни странно, из-за хаотичной начитанности этой дамы. В разговоре с Митей она бросается не случайными фактами, а кратко пересказывает сводку российских и мировых новостей последнего времени, среди прочего в ужасе рассказывая о падении кредитного рубля. Речь идет о бумажных деньгах, которые обесценивались из-за неудачных попыток финансовой реформы. Начался кризис, и в 1866 году кредитный рубль упал на 35 %.
Кроме того, она настойчиво советует Мите бросить свою прежнюю жизнь и отправиться на золотые прииски. В 1861 году власти разрешили золотодобычу на новых территориях — чиновники и дворяне бросали службу в крупных городах, чтобы отправиться в Сибирь и на Дальний Восток.
Хохлакова также сообщает, что ее очень волнуют вопросы «женского развития и политической роли женщины»: именно поэтому она написала Салтыкову-Щедрину. Как было сказано выше, время действия романа «Братья Карамазовы» — 1866 год. В мае 1866-го был закрыт журнал «Современник», в котором работал Салтыков-Щедрин. Именно поэтому Хохлакова решила в своем послании обойтись без слова «современная», не желая расстраивать писателя.
3. Тайна убийств, совершенных в будущем
Во время судебного заседания по делу Мити Карамазова товарищ прокурора В XIX веке словом «товарищ» называли заместителя должностного лица: товарищ прокурора, товарищ председателя, товарищ министра. приводит пример преступления, которое ему кажется аналогичным:
«Вот там молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: „Пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди“. Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки».
Это реальный случай: как и в других романах, Достоевский насыщает текст отсылками к криминальной хронике. О громких преступлениях того времени говорят многие персонажи романа, но особенно часто — товарищ прокурора и адвокат, которые приводят эти случаи в качестве примеров, доказывающих их правоту.
Офицер, зарезавший мелкого чиновника и его служанку, — это отставной прапорщик лейб-гвардии саперного батальона Карл фон Ландсберг: по мнению прокурора, это пример чудовищного убийства вроде злодеяния, совершенного Митей. Адвокат, напротив, вспоминает дело 18-летнего юноши Зайцева, который, чтобы похитить 1500 рублей, зарезал своего ровесника, работника меняльной лавки. Против него были собраны настоящие улики: меняла рассказал, какие купюры были похищены, и именно такую пачку денег нашли у преступника. В отличие от этого случая, в деле Мити нет доказательств, подтверждающих его вину.
Ожидая вердикта, впечатленная речью адвоката публика вспоминает дело актрисы Настасьи Каировой, которая попыталась перерезать горло жене своего любовника, но не смогла и впоследствии была оправдана. Защитник смог убедить суд в том, что Каирова стала жертвой обстоятельств.
Однако все эти преступления были совершены в 1870-е годы — как мы помним, судебное заседание происходит в 1866 году. Для чего Достоевский искажает реальность и вводит такой явный анахронизм?
Достоевскому было очень важно ввести в романы криминальную хронику последних лет. Во-первых, он считал, что преступления характеризуют общество; во-вторых, благодаря этому приему его книги становились острыми и актуальными. Именно поэтому в «Карамазовых» так много преступлений 1870-х. Как это ни парадоксально, одновременно он хотел показать, что это роман о 1860-х: о реформах, к которым Достоевский относился с воодушевлением и опасением одновременно, до конца не веря, что преобразования действительно пойдут на пользу стране, о пореформенной России и идейном поколении шестидесятников. Это позволило бы ему показать во второй части романа, что стало со страной и людьми в 1880 году.
4. Тайна кафе-ресторана на Петровке
В самом начале романа лакей, а заодно и внебрачный сын Федора Павловича Карамазова Смердяков делится с соседской барышней Марьей Кондратьевной своими планами на жизнь:
«Я, положим, только бульонщик, но я при счастье могу в Москве кафе-ресторан открыть на Петровке».
Почему Смердяков хочет открыть заведение именно на Петровке? В середине XIX века на людной Петровке почти не было ресторанов: там располагались торговые ряды, купеческие дома и магазины средней руки. Кафе-ресторан — особый вид заведений, в которых, в отличие от трактиров и ресторанов, подавались безалкогольные напитки, еда, сладости. Там можно было читать газету, играть в шахматы и домино. Они стали появляться в российских городах с 1840-х и постепенно приобрели большую популярность: цены тут были ниже, чем в обычных ресторанах, а меню разнообразнее, чем в кафе. Однако куда важнее другое. Положение о трактирных заведениях запрещало женщинам посещать трактиры и рестораны, к столу они могли выходить только в гостиницах. Но о кондитерских, кофейных домах и кафе-ресторанах в документе ничего не говорилось. Владельцы таких заведений воспользовались этим: в начале 1860-х стали появляться специальные изолированные комнаты, где женщины могли перекусить. Услуга оказалась невероятно популярной, и в 1864 году запреты были сняты.
Смердяков мечтает открыть демократичное, но в меру изысканное заведение на одной из торговых улиц Москвы, рассчитывая на самую разнообразную публику обоих полов: купцов, их клиентов, театральных актеров и так далее. Такая деталь говорит о нем как о человеке крайне практичном, наблюдательном и хватком. Позже эти же качества помогут ему хладнокровно убить своего отца, подставить брата и снять с себя подозрения.
5. Тайна обвинения
Предваряя выступление свидетелей на процессе по делу Мити Карамазова, рассказчик сообщает:
«Замечу только, что с самых первых минут суда выступила ярко некоторая особая характерность этого „дела“, всеми замеченная, именно: необыкновенная сила обвинения сравнительно со средствами, какие имела защита».
Действительно, в 1860-е годы обвинению было проще подготовиться к судебному заседанию. Судебные следователи осматривали место преступления, опрашивали свидетелей и подозреваемых, собирали улики, чтобы предоставить прокурору и адвокату максимально полную информацию, которую те могли использовать в ходе прений. При этом прокурор мог участвовать в допросах и обысках, мог попросить судебного следователя проверить то или иное обстоятельство, а защитник — нет. Вместо него это мог сделать сам обвиняемый, однако, не имея опыта в подобных делах и часто будучи не в состоянии сориентироваться, он допускал ошибки. Судебный следователь был гарантом соблюдения его прав: он не подчинялся прокурору и мог как согласиться с его указаниями, так и отказаться их выполнять.
Однако судебный следователь в деле Мити, Николай Парфенович, не был беспристрастен. Он чувствовал к прокурору «необыкновенное уважение и почти сердцем сошелся с ним. <…> …В свою очередь молоденький Николай Парфенович оказался единственным тоже человеком в целом мире, которого искренно полюбил наш „обиженный“ прокурор».
Во время допроса Мити сразу после его задержания следователь и прокурор действуют заодно:
«…Они успели кое в чем сговориться и условиться насчет предстоящего дела, и теперь, за столом, востренький ум Николая Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в лице своего старшего сотоварища, с полуслова, со взгляда, с подмига глазком».
Скорее всего, Николай Парфенович хотел помочь своему другу. Дело Мити Карамазова не казалось спорным и особенно проблемным, доказать его вину было легко. И это помогло бы прокурору заработать признание и известность.
6. Тайна аффекта
Чтобы спасти Митю от каторги, его бывшая невеста Катерина Ивановна приглашает известного доктора. Что именно он должен сделать, рассказывает переживающей Грушеньке Алеша Карамазов:
«— Ну, а доктора-то, доктора зачем та выписала?
— Как эксперта. Хотят вывести, что брат сумасшедший и убил в помешательстве, себя не помня, — тихо улыбнулся Алеша, — только брат не согласится на это».
Действительно, после судебной реформы защитники, чтобы добиться смягчения или отмены наказания, могли ссылаться на душевное состояние обвиняемого; в газетах это называли аффектом. Для этого во время предварительного следствия судебный врач должен был освидетельствовать обвиняемого. Позже, уже при подготовке к суду, нужно было провести проверку с участием двух сторонних специалистов: на основании их мнений могло быть принято решение о прекращении дела. Но доказать сумасшествие Мити было проблематично.
В подробном описании предварительного следствия не говорится о том, что земский доктор Варвинский, исполнявший обязанности судебного врача, и городской доктор Герценштубе проверили Митино психическое здоровье. А вот у второго подозреваемого — Смердякова — врачи заметили «некоторые ненормальности». Юристы XIX века, комментировавшие Судебные уставы и судебную практику, обращали особое внимание на то, что несвоевременное освидетельствование часто не позволяло доказать, что человек совершил преступление, будучи не в себе. Достоевский намекает, что Варвинский был пристрастен: не случайно впервые он появляется в романе в компании исправника, товарища прокурора, судебного следователя (как уже было сказано, двое последних успели сговориться).
7. Тайна мужичков-присяжных
Вердикт по Митиному делу должны вынести 12 присяжных: «четыре наших чиновника, два купца, шесть крестьян и мещан». По словам рассказчика, собравшаяся коллегия очень не нравится публике, которая наблюдает за процессом:
«У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда, с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы: „Неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано на роковое решение каким-то чиновникам и, наконец, мужикам, и что-де поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем более мужик?“»
Почему такой набор присяжных смущает публику? Согласно Судебным уставам, чиновники и крестьяне были обязательными участниками каждой коллегии — наряду с дворянами, купцами и мещанами. Автоматически зачислялись в списки потенциальных присяжных чиновники ниже 5-го класса (те, кто был выше классом, освобождались от этой обязанности), а также крестьяне, которые были избраны в волостные суды или были представителями сельского самоуправления, например старостами. В остальных случаях должен был действовать жесткий и достаточно высокий имущественный ценз. Возможно, именно здесь кроется секрет недовольства посетителей суда.
Потенциальные провинциальные присяжные должны были владеть как минимум сотней десятин земли (более 100 гектаров) или недвижимостью минимум на 500 рублей или же получать годовой доход не менее 200 рублей в год. Для жителей крупных городов и тем более столицы требования были выше. Эти ограничения считались гарантом законности и порядка в суде и не допускали откровенно бедных и несведущих людей к решению важных вопросов.
Коллегия присяжных по делу Мити описана так, что действительно возникают сомнения в ее достатке и способности объективно принимать решения «В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, седые — один только из них был несколько помоложе, — в обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жалованье, имевшие, должно быть, старых жен, которых никуда нельзя показать, и по куче детей, может быть даже босоногих, много-много что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками и, уж разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны; один из них брил бороду и был одет по-немецки; другой, с седенькою бородкой, имел на шее, на красной ленте, какую-то медаль. Про мещан и крестьян и говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане почти те же крестьяне, даже пашут. Двое из них были тоже в немецком платье и оттого-то, может быть, грязнее и непригляднее на вид, чем остальные четверо».. По закону на каждый процесс изначально отбирали более 12 присяжных, а уже потом прокурор и адвокат могли заявить отвод кандидатов, вызывающих подозрения. После коллегию составляли практически случайным способом, соблюдая, однако, сословные пропорции. Тогда почему товарищ прокурора, адвокат (да и сам Достоевский) набрали именно такую коллегию?
Потому что они хотели, чтобы решение по делу принимали «мужички», как после оглашения приговора их иронично называла публика. Прокурор, по-видимому, рассчитывал, что они поверят уликам, а его разоблачительная речь произведет на них впечатление. Адвокат думал, что сможет обмануть «мужичков», впечатлить и запутать. А Достоевский хотел показать, что запутать таких присяжных невозможно. Критикуя «прелюбодеев мысли» — именно так («Прелюбодей мысли») называется одна из глав с выступлением Фетюковича, адвоката Мити (его прототипом был реальный юрист Владимир Спасович, о котором писатель отзывался неблагожелательно), — он считал, что часто юридическая риторика противоречит всем возможным моральным принципам, а в погоне за победой они отрицают значение не только показаний и улик, но и самого преступления. Образованных присяжных Фетюкович обязательно перетянул бы на свою сторону — так произошло со зрителями, которые после его выступления ждали оправдательного вердикта. А «мужички» остались верны уликам и предоставленным фактам.
Читайте также материалы «Главные цитаты Достоевского» и «Неизвестный Достоевский».
микрорубрики
Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года
Архив
Электронная книга
Братья Карамазовы
- Описание
- Обсуждения 1
- Цитаты 16
- Рецензии 1
- Коллекции 3
Глубокий, неоднозначный, сложный и духовно сильный роман о Боге, свободе и морали, универсальная энциклопедия мечущейся человеческой души.
Три брата, Иван, Алеша и Митя, заняты разрешением вопросов о первопричинах и конечных целях бытия. Их отец – прожига Федор Павлович Карамазов. Митя – ребенок от первого брака с богатой женщиной Аделаидой Ивановной Миусовой, оставившей Федору после смерти состояние и малолетнего сына, о котором отец, предаваясь оргиям и спекуляциям, позабыл. Женившись вторично на красивой сироте Софье Ивановне, Федор не исправился и, издеваясь над ней из-за отсутствия преданного, продолжил распутную жизнь. В конце концов он свел свою вторую жену, родившую ему двоих сыновей, в могилу. Дети же были отданы опекунам.
История одной семьи — призма, сквозь которую преломляется социально-философская эпопея о прошлом, настоящем и будущем России.
(с) Leylek для Librebook.ru
Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался <…> – знает сам это, а всё-таки самый первый обижается, обижается до приятности.
Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в неуважение и к себе и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в пороках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому.
Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм!
Человек с деньгами — везде человек.
Родивший не есть еще отец, а отец есть – родивший и заслуживший.
добавить цитату
Все цитаты из книги Братья Карамазовы
Иллюстрации
Интересные факты
Последний роман Ф. М. Достоевского, который автор писал два года. Роман был напечатан частями в журнале «Русский вестник». Достоевский задумывал роман как первую часть эпического романа «История Великого грешника». Произведение было окончено в ноябре 1880 года. Писатель умер через два месяца после публикации.
Произведение Братья Карамазовы полностью
Информация об экранизации книги
Экранизации романа производятся с 1915 года.
1915 — Братья Карамазовы (фильм) (Россия, режиссёр Виктор Турянский)
1958 — Братья Карамазовы/The Brothers Karamazov (фильм) (США, режиссёр Ричард Брукс)
1968 — Братья Карамазовы (фильм) (СССР, режиссёры Иван Пырьев, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров)
1969 — Братья Карамазовы/Les frères Karamazov (телевизионный фильм) (Франция, режиссёр Марсель Блюваль)
1990 — Мальчики (фильм) (СССР, режиссёр Ренита Григорьева) — по одноимённой десятой главе романа
2008 — Карамазовы/Karamazovi (фильм) (Чехия, режиссёр Пётр Зеленка)
2009 — Братья Карамазовы (сериал) (Россия, режиссёр Юрий Мороз)
2013 — Братья Карамазовы/Karamazofu no Kyoudai (сериал) (Япония, режиссёры Junichi Tsuzuki, Genta Sato, Shosuke Murakami)
Связанные произведения
Братья Карамазовы
драма
психологический
философский
трагедия
социальный
религия
Глубокий, неоднозначный, сложный и духовно сильный роман о Боге, свободе и морали, универсальная энциклопедия мечущейся человеческой души. Три брата, Иван, Алеша и Митя, заняты разрешением вопросов о первопричинах и конечных целях бытия. Их отец – прожига Федор Павлович Карамазов. Митя – ребенок от первого брака с богатой женщиной Аделаидой Ивановной Миусовой, оставившей Федору после смерти состояние и малолетнего сына, о котором отец, предаваясь оргиям и спекуляциям, позабыл. Женившись вторично на красивой сироте Софье Ивановне, Федор не исправился и, издеваясь над ней из-за отсутствия преданного, продолжил распутную жизнь. В конце концов он свел свою вторую жену, родившую ему двоих сыновей,…
13
Online
Герои
Статьи
Купить онлайн
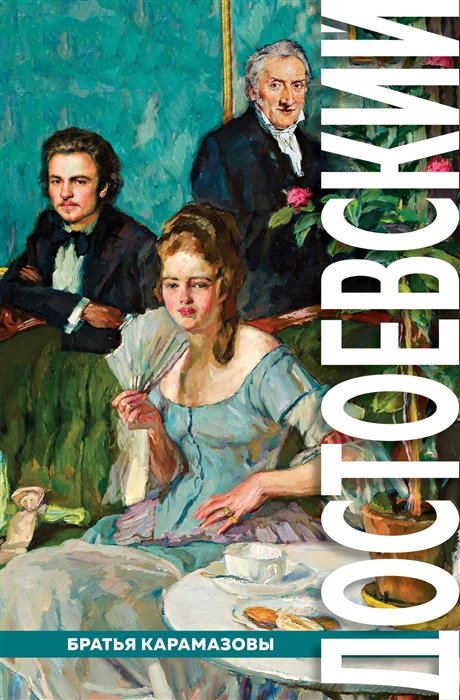
212 руб
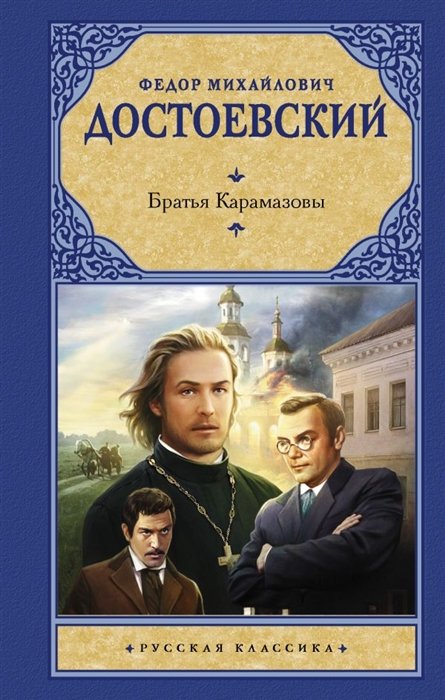
283 руб
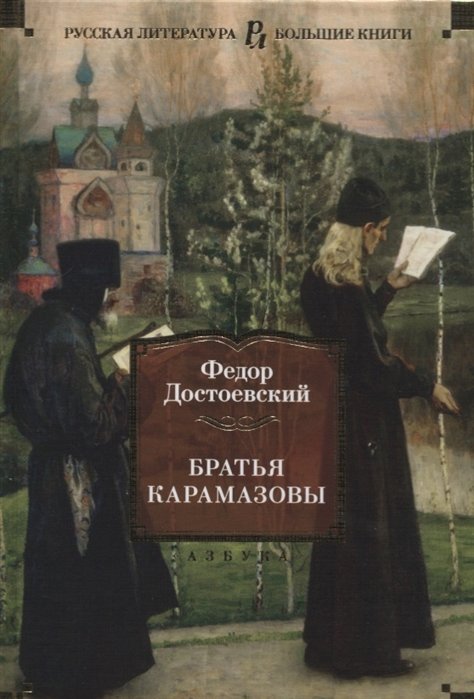
271 руб
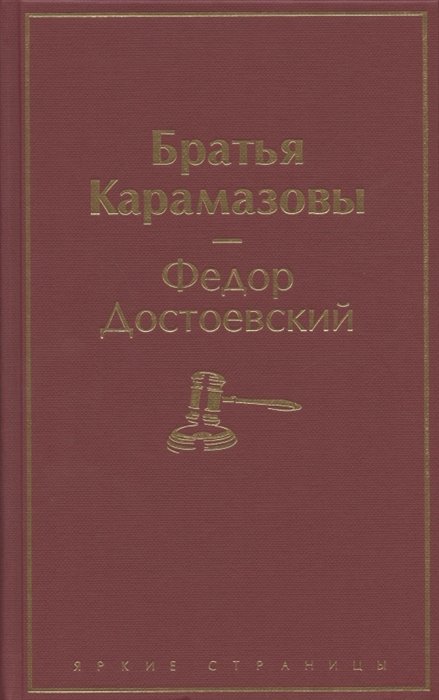
263 руб

244 руб
Все предложения…
- Похожее
-
Рекомендации
-
Ваши комменты
- Еще от автора
Легенда об Уленшпигеле
The Legend of the Glorious Adventures of Tyl Ulenspiegel in the Land of Flanders & Elsewhere
мистика
драма
юмор
психологический
философский
трагедия
героика
приключения
социальный
мифы и легенды
исторический
любовь
религия
Этот роман, считающийся сегодня фламандской Библией, возвысивший дух бельгийцев, воспевший их историю и национальный характер, остался незамеченным современниками и принес его автору лишь посмертную славу. «Легенда об Уленшпигеле» начинается с точнейшей даты – 21 мая 1527 года. В этот день родились два мальчика: Филипп, будущий король Испании и поработитель Фландрии, и Тиль, сын угольщика из той самой Фландрии, которому предстоит стать легендой, народным героем. Веселый озорник, балагур, не падающий духом, он будет поддерживать народ Фландрии во время жесточайшего террора испанской инквизиции. В жизни Тиля Уленшпигиля не будет великих деяний, он будет всего лишь веселить людей своими грубоватыми…
6
Сила и слава
The Power and the Glory
драма
психологический
философский
трагедия
социальный
исторический
религия
Проникновенный и сильный роман «Сила и слава», в чье название внесено словосочетание из главной христианской молитвы, поражает сердца читателей уже более 75 лет. 1930-е годы. В бедной, удаленной части Южной Мексики главенствуют военизированные отряды в красных рубашках. Церковь запрещена ими, как источник алчности и разврата, Бог объявлен вне закона, а на священников началась настоящая охота. Последний Священник находится в бегах. Он слишком человечен, чтобы стать героем, слишком скромен для мученичества, немного мирской «пьющий падре», он восходит к своей собственной Голгофе не столько из сострадания к человечеству, сколько стараниями своих преследователей. ©MrsGonzo для LibreBook
10
Преступление и наказание
драма
психологический
социальный
детектив
«Преступление и наказание» — роман об одном преступлении. Двойное убийство, совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно найти фабулу проще, но интеллектуальное и душевное потрясение, которое производит роман, неизгладимо. В чем здесь загадка? Кроме простого и очевидного ответа «в гениальности Достоевского», возможно, существует как минимум еще один: «проклятые» вопросы не имеют простых и положительных ответов. Нищета, собственные страдания и страдания близких всегда ставили и будут ставить человека перед выбором: имею ли я право преступить любой нравственный закон, чтобы потом стать спасителем униженных и утешителем слабых; должен ли я сперва возлюбить себя, а только потом, став сильным,…
9
Идиот
драма
психологический
философский
реализм
социальный
любовь
Что будет, если человека с открытым сердцем и благими чаяниями, человека вмещающего в себя все христианские добродетели, поместить в наш жестокий мир, в самую гущу страстей? Заразит ли он своей добродетелью окружающих его людей, сделает ли мир лучше? Или же сам сгинет и других затянет туда, куда выстлана дорога хорошими намерениями, под натиском жестокости и циничности реалий, его окружающих? Вот вопрос, который ставит Федор Михайлович перед читателем, а хуже всего то, что каждый из нас в глубине души уже знает на него ответ. Так есть ли место христианским идеалам на грешной земле, или же нужно быть идиотом, чтобы верить в это? А если так, к чему стремиться и где искать ответы на главные вопросы?..…
50
Подросток
драма
психологический
Злободневный и не теряющий свежести роман-воспитание, роман-исповедь, “Подросток” всегда будет востребован у молодых читателей. Его главному герою, Аркадию Долгорукому всего 19 лет. Он только что закончил гимназию, но поступление в университет решил отложить ради воплощения в жизнь главной цели своей жизни, которую тщательно обдумывал с шестого класса. Он решил стать Ротшильдом, сверхбогатым человеком, чтобы обрести могущество и вести уединенный образ жизни. Незаконнорожденный сын родовитого дворянина Версилова, он испытал множество унижений, что сформировало его экспансивный характер, вкупе с комплексом неполноценности. Лишь осуществление заветной цели, по мнению Аркадия, сможет излечить его…
32
Приблизительное время чтения: 11 мин.
В нашей рубрике друзья «Фомы» выбирают и советуют читателям книги, которые – Стоит перечитать.
Книгу рекомендует кинокритик, продюсер Лев Карахан

Автор
Фёдор Михайлович Достоевский (1821–1881) — прозаик, критик, публицист.
История создания
Роман «Братья Карамазовы» создавался в течение почти трех лет и печатался на страницах журнала «Русский вестник» (1879–1880).
Содержание романа было определено сильным впечатлением Достоевского от истории Дмитрия Ильинского, ложно обвиненного в убийстве собственного отца и заключенного в Омский острог, где «десять лет страдал в каторжной работе напрасно». История обвиненного была изложена Достоевским еще в «Записках из Мертвого дома», а позже фигура Ильинского стала прообразом мнимого отцеубийцы Дмитрия Карамазова.
Работа над романом была прервана трагическим событием в семье писателя: в мае 1878 года умирает его трехлетний сын Алеша. Чтобы горе не сгубило Достоевского, его супруга Анна Григорьевна настаивает на том, чтобы муж поехал в монастырь под Калугой — Оптину пустынь. Там писатель встретился со старцем Амвросием, беседы с которым утешили Достоевского, и, вернувшись домой, он взялся за «Братьев Карамазовых». Произведение было окончено в ноябре 1880 года, издано в начале декабря и имело огромный успех.
О чем роман?
В романе автора интересует не только судьба отдельных героев («один брат — атеист. Отчаяние. Другой — весь фанатик. Третий — будущее поколение, живая сила, новые люди»), но и судьба общечеловеческая.
На почве детективного сюжета развивается серьезная социально-психологическая драма о том, что «в мире все более и более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целостности людей» (мысль старца Зосимы). Именно Зосима усматривает в главных героях раздвоенность: одновременно и потребность в вере и правде, и «склонность ко лжи», карамазовщине — духовному разложению, богоборчеству, ложным истинам.
Каждый из трех братьев испытывает свою «правду» о Боге. Младший, Алеша, напоминающий житийного героя, — это тип праведника в миру, который в каждом человеке, даже в самом порочном, видит образ Божий. Его путь — путь служения Богу. В старшем, Дмитрии, уживаются как благородные порывы, так и низменные поступки. Однако он желает «собрать» себя, обрести цельность, поэтому он принимает несправедливый приговор в отцеубийстве со смирением. Средний же брат, Иван Карамазов, отрицает мир, созданный Богом. Он считает, что раз Бог допускает страдания невинных людей, то либо Он несправедлив, либо не всесилен.
В романе ярко показаны, с одной стороны, трагедия людей, которые лишены веры и исповедуют нигилизм, а с другой — христианское подвижничество и потребность в Боге. Автор стремится обнаружить подлинную правду о спасении и устроении мира в мыслях старца Зосимы и Алеши — христиан, проповедующих идею всеобщего счастья и веру в Бога. Ад, по Достоевскому, — это неспособность любить и «страдание в том, что нельзя уже более любить». Путь к спасению же обнаруживается внутри каждого человека. Нужно принимать вину другого и любить его, как самого себя.
Интересные факты о романе
-1-
«Братья Карамазовы» — заключительный роман так называемого «великого пятикнижия Достоевского». В него также входят романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток» и «Бесы».
-2-
Достоевский скончался через два месяца после публикации этого своего — последнего — романа.
-3-
Действие романа разворачивается в вымышленном провинциальном Скотопригоньевске, который по описанию и достопримечательностям во многом отражает облик города Старая Русса, где Достоевский писал книгу.
-4-
Достоевский хотел написать продолжение романа, подробно рассказав дальнейшую историю Алеши Карамазова, где бы «появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет», но не успел осуществить задуманное.
-5-
Известное выражение «Если Бога нет, то все позволено», которое приписывается Достоевскому, как единая фраза отсутствует в романе. Однако эта мысль прекрасно иллюстрирует идейные взгляды Ивана Карамазова и является одной из определяющих в произведении. Интересно, что в таком виде она была взята французским философом Жан-Полем Сартром для описания одного из главных принципов его экзистенциальной философии.
-6-
У героев романа существуют реальные прототипы. Например, одним из источников образа Ивана Карамазова стала фигура мыслителя Владимира Соловьева, чьи философско-религиозные взгляды были близки Достоевскому. Прообразами Зосимы стали иеромонах Амвросий Оптинский и святитель Тихон Задонский.
-7-
Для того чтобы ускорить работу над книгой, жена писателя Анна Григорьевна помогала супругу — стенографировала большую часть текста под диктовку Достоевского.
—8-
Выражение, ставшее известной всем поговоркой, «Красота – страшная сила» – тоже из «Братьев Карамазовых». Только звучит она в романе несколько иначе: “Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, и определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Иной высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы… Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (слова Мити Карамазова). Тема Красоты и ее осмысление встречаются и в других произведениях Достоевского, в том числе, в романе «Идиот», где мы встречаем еще одну знаменитую фразу «Красота спасет мир». Если не вырывать фразу из контекста, то становится ясно, что сам Достоевский никогда так вовсе считал, что мир спасет какая-то абстрактная красота. В дневниках писателя формула спасения звучит так — «мир станет красота Христова». В своих произведениях Достоевский хочет донести до читателей мысль о том, что красоте присуща не только одухотворяющая, но и губительная сила.
Подробнее на эту тему читайте здесь и здесь .
-9-
Черт, разговаривающий с Иваном Карамазовым в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», описывает фактически искусственный спутник Земли. «Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагают новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы… только там мог случиться топор…
— А там может случиться топор? — рассеянно и гадливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно.
— Топор? — переспросил гость в удивлении.
— Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.
— Что станется в пространстве с топором? Quelle idée! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, вот и все»
Что приснилось Алеше?
Отрывок из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы», из главы «Кана Галилейская», где описывается сон Алеши Карамазова во время чтения Евангелия над гробом старца Зосимы.
«…И не доставшу вину, глагола мати Иисусова к нему: вина не имут…» — слышалось Алеше.
«Ах да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю: это Кана Галилейская, первое чудо… Ах, это чудо, ах, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог… “Кто любит людей, тот и радость их любит…” Это повторял покойник поминутно, это одна из главнейших мыслей его была… Без радости жить нельзя, говорит Митя… Да, Митя… Все, что истинно и прекрасно, всегда полно всепрощения — это опять-таки он говорил…»
«…Глагола ей Иисус: что есть мне и тебе, жено; не у прииде час мой. Глагола мати его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите».
«Сотворите… Радость, радость каких-нибудь бедных, очень бедных людей… Уж конечно, бедных, коли даже на свадьбу вина недостало… Вон пишут историки, что около озера Генисаретского и во всех тех местах расселено было тогда самое беднейшее население, какое только можно вообразить… И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери его, что не для одного лишь великого страшного подвига своего сошел он тогда, а что доступно сердцу его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших его на убогий брак их. “Не пришел еще час мой”, — он говорит с тихою улыбкой (непременно улыбнулся ей кротко)… В самом деле, неужто для того, чтоб умножать вино на бедных свадьбах, сошел он на землю? А вот пошел же и сделал же по ее просьбе… Ах, он опять читает».
«…Глагола им Иисус: наполните водоносы воды, и наполниша их до верха.
И глагола им: почерпите ныне и принесите архитриклинови, и принесоша. Якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведяше откуда есть: слуги же ведяху почерпшии воду: пригласи жениха архитриклин.
И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда хуждшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе».
«Но что это, что это? Почему раздвигается комната… Ах да… ведь это брак, свадьба… да, конечно. Вот и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа и… где же премудрый архитриклин? Но кто это? Кто? Опять раздвинулась комната… Кто встает там из-за большого стола? Как… И он здесь? Да ведь он во гробе… Но он и здесь… встал, увидал меня, идет сюда… Господи!..
Да, к нему, к нему подошел он, сухенький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской…
— Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, — раздается над ним тихий голос. — Зачем сюда схоронился, что не видать тебя… пойдем и ты к нам.
Голос его, голос старца Зосимы… Да и как же не он, коль зовет? Старец приподнял Алешу рукой, тот поднялся с колен.
— Веселимся, — продолжает сухенький старичок, — пьем вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке… Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело свое!.. А видишь ли Солнце наше, видишь ли ты Его?
— Боюсь… не смею глядеть… — прошептал Алеша.
— Не бойся Его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. Вон и вино несут новое, видишь, сосуды несут…»
Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его… Он простер руки, вскрикнул и проснулся…
Опять гроб, отворенное окно и тихое, важное, раздельное чтение Евангелия. Но Алеша уже не слушал, что читают. Странно, он заснул на коленях, а теперь стоял на ногах, и вдруг, точно сорвавшись с места, тремя твердыми скорыми шагами подошел вплоть ко гробу. Даже задел плечом отца Паисия и не заметил того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от книги, но тотчас же отвел их опять, поняв, что с юношей что-то случилось странное. Алеша глядел с полминуты на гроб, на закрытого, недвижимого, протянутого в гробу мертвеца, с иконой на груди и с куколем с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас только он слышал голос его, и голос этот еще раздавался в его ушах. Он еще прислушивался, он ждал еще звуков… но вдруг, круто повернувшись, вышел из кельи.
Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Белые башни и золотые главы собора сверкали на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною… Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю.
Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои…» — прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Простить хотелось ему всех и за всё и просить прощения, о! не себе, а за всех, за всё и за вся, а «за меня и другие просят», — прозвенело опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бойцом и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю жизнь свою потом этой минуты. «Кто-то посетил мою душу в тот час», — говорил он потом с твердою верой в слова свои…