- Полный текст
- Праздники
- Великий пост
- Благовещенье
- Пасха
- Розговины
- Царица Небесная
- Троицын День
- Яблочный Спас
- Рождество
- Святки
- Крещенье
- Масленица
- Праздники — Радости
- Ледоколье
- Петровками
- Крестный ход
- Покров
- Именины
- Михайлов день
- Филиповки
- Рождество
- Ледяной дом
- Крестопоклонная
- Говенье
- Вербное воскресенье
- На святой
- Егорьев день
- Радуница
- Скорби
- Святая радость
- Живая вода
- Москва
- Серебряный сундучок
- Горькие дни
- Благословение детей
- Соборование
- Кончина
- Похороны
Праздники — Радости
Ледоколье
Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись две тысячи возков льду Горшанову доставить, — пивоваренный завод, на Шаболовке, от нас неподалеку, — другую неделю возим, а и половины не довезли. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрухлявеет, таскать неспособно будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, — и оставим Горшанова безо льду. Крестопоклонная на дворе, а Василь-Василич, Косой, с подлецом-портомойщиком Дениской, масленицу все справляет…
— Пьяного захватишь, — палкой его оттуда, какой это приказчик! По шеям его, пускай убирается в деревню, скажи ему от меня! До Алексей-Божья человека… — сегодня у нас что, десятое…?.. — все чтобы у меня свезти, какая уж тогда возка!
— Какая возка… — говорит Горкин озабоченно, — подойдут Дарьи-за… сори-пролуби, вежливо сказать… ледок замолочнится, водой пойдет, крепости в нем не будет… Горшанову обидно будет. Попужаю Косого, — поспеем, Господь даст.
Отец сам бы поехал, да спины разогнуть не может, «прострел»: оступился на ледокольне, к вечеру дело было, ледком ледовину затянуло, снежком позапорошило, он в нее и попал, по шейку.
— Ледоколов добавь, воробьевских с простянками поряди… неустойка у меня, по полтиннику с возка… да не в неустойке дело: никогда не было такого, осрамить меня, с… с…!
Горкин обнадеживает, — «поспеем, Господь даст», — берет с собой шустрого паренька Ондрейку, который летось священного голубка на шатерчик сделал, как Царицу Небесную принимали, — и одевается потеплей: поверх казакинчика на зайце натягивает хороший полушубок, романовский, черненый, с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицы и подшитые кожей валенки. На реке знобко, потеплей надо одеваться.
Я не был еще на ледокольне, а там такая-то ярмонка, — жара прямо! до сорока лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки, и всякого-то сбродного народу, с Хитрого рынка порядили, выламывают ледок, баграми из ледовины тянут, как сахар колют, — Горкин рассказывал. Я прошусь с ним, а он отмахивается: «некому за тобой смотреть, и лошади зашибут, и под лед осклизнуться можешь, и мужики ругаются… нечего тебе там делать». Он сердится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москва-реку убегу, дорогу знаю:
— Только прибеги у меня… я те, самовольник, обязательно в пролуби искупаю, узнаешь у меня!..
Говорит он так строго, что я боюсь, — ну-ка, и взаправду искупает? Я прошусь у отца, говорю ему, — «басню я про Лисицу выучил…». А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила, а она очень строгая. А тут сказала: «ишь ты какой, как настоящая лисица поешь… ну-ка, еще скажи…» И отец слышал про Лисицу. И говорит:
— Возьми его, Панкратыч, на ледокольню, он тебе про Лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский… — смеется так.
А Горкин даже и доволен, словно, — разу повеселел:
— Раз уж папашенька дозволяет — поедем, обряжайся.
Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком, заматывают меня натуго башлыком, и вот, я прыгаю на снежку у каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубяные саночки Кривую, — другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину:
Зимой, ране-хонько, близ жи-ла,
Лиса у проруби пила в большо-ой мороз…
Слушает Горкин, и Ондрейка, и даже будто Кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня, — «а ну, ну!». Скорей бы ехать, а он все-то копается, мажет Кривой копытца. Не на парад нам, чего тут копытца мазать! Нельзя не мазать: копытца старые, а дорога теперь какая, волглая… — надо беречь старуху. И, правда, снег начинает маслиться, вот-вот потекут сосульки; пока пристыли, крепко висят с сараев, а дымок вон понизу стелется, — ростепели начнутся. Видно, конец зиме: галочьи «свадьбы» кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился, — попахивает двором, сенцом, еловыми досками-штабелями, и петуху уж в голову ударяет, — «гребешок-то какой махровый… к весне дело!».
Садимся в лубяные саночки на сено, вытрухиваем на улицу, — туп-туп, на зарубах, о передок. На Калужском рынке ползут и ползут простянки, везут ледок, на Шаболовку, к Горшанову.
— Наши, — говорит Горкин, — ледок-то как замучаться стал, прозраку-крепости той нету, как об Крещенье, вот под «ердань» ломали. Как у вас тама-то?.. — окликает он мужика, а Кривая уж знает, что остановиться надо, — котора нонче возка?..
— Четвертая… — говорит мужик, придерживая возок. — Верно, что мало, да энти вон, ледоломы-дуроломы, шабашут все… ка-призные!.. пива, вишь, им подай, с Горшанова выжимают. Нам-то там ковшами подносят, сусла… управляющий велит, для раззадору, а энти… — «погожай, леду не наломали!» — выжимают. Василь-то-Василич?.. да ничего, веселый, пир у них нонче, портомойщик аменины празднует, от Горшанова ящик им пива привезли.
— Гони, Ондрюшка, — торопит Горкин, — вот те два! Денис-то и вправду именинник нонче, теперь чего уж с ними… Ледоломы шабашут… а Косой-то чего смотрит?!. Погоняй, Ондрюша, погоняй… дадим ему розгон…
Но Кривая, как ее не гони, потрухивает себе, бегу не прибавляет, такая уж у ней манера, с прабабушки Устиньи: в церковь ее всегда возила, а в церковь — не на пир спешить, а чинно, не торопясь; ехать домой, к овсу, — весело побежит.
Вот уж и Крымский мост. Наша ледокольня влево от него: темная полынья на снежной великой глади, тянется далеко, чуть видно. С реки ползут на подъеме возки со льдом; сверху мчатся порожняки: черные мужики, стойком, крутят над головой, вожжами, спешат забирать погрузку. Вдоль полыньи, сколько хватает глаза, чернеют ледоломы, как вороны, — тукают в лед носами; тянут баграми льдины, раскалывают в куски, как сахар. У черного края ледовины — горки наколотого льду, мутно-зеленоватого, будто постный сахар. Бурые мужики, уж в полушубках, скинув ушастые азямы, швыряют в санки: видно, как падает, только не слышно стука.
Мы съезжаем по каткой наезженной дороге к вмерзшим во льду плотам: это и есть наша портомойня. На ней в прорубах плещется черная вода: бабы белье полощут, красные руки плещутся в бело-белом. Кривая знает, как надо на раскатцах, — едва ступает. Сзади мчат на нас мужики в простянках, крутят подмерзшими вожжами, гикают… — подшибут! Горкин страшно кричит: — «легше!.. придерживай… ребенка убьешь!..» Я задираю голову в башлыке и вижу: храпят надо мной оскаленные морды, дымятся ноздри, вздымаются скрипучие оглобли… мчится с горы на нас рыжий мужик в азяме, — уши, как у слона, — трещат-ударяются простянки, сшибают лубянки наши, прямо под снеговую гривку… а мне даже весело, не страшно.
— Да сде-рживай… лешья голова!.. — с криком выпрыгивает из санок Горкин и подымает руки на мчащихся с гиканьем за нами, — сворачь!.. сворачь, те говорю!.. Господи, греха с ими — чумовыми… пьяные, одурели!..
И все несутся, несутся порожняком за льдом…
— Пронесло… — воздыхает Горкин и крестится, — слава-те, Господи. Долго ли голову пробить оглоблей… вот как брать-то тебя!.. я‑то знаю, чего бывает… спешка, дело горячее. Спасибо, Кривая сама свернула под бугорок… старинная лошадка, зна-ет… А на Чаленьком бы поехали… он бы сейчас за ними увязался, тут бы и костей не собрать… ишь, раскат-то какой наездили!
Навстречу, хрупая по хрустящим льдышкам, вытягивают в горку возки с ледком. Спокойные мужики, в размашистых азямах, хрустко ступают в валенках, покуривая трубки и свернутые из газеты «ножки». Зеленый дымок махорки тянет по ветерку; будто и ледком пахнет, зимней еще Москва-рекой.
Ну, как, Степа?.. — окликает Горкин знакомого воробьевского мужика, — оборачиваете без задержки? ледоломы-то поспевают ледок давать?..
— Здравствуй, Михал Панкратыч! — говорит мужик, — теперь пошло, обломал их Василь-Василич, а то хоть бросай работу. Так взялись — откуда что берется… гляди, сколько наворотили!..
— Один одно плетет, другой — другое, вот и пойми их! — дивится Горкин. — Ишь, по ледовине-то… валы льду! А тот говорил — нечего возить. Сейчас разберем дело.
Привязываем Кривую к столбику, к сторонке от дороги, и бредем по колено в снегу к сторожке. Нас не видно: окошко сторожки на реку. Из железной трубы сыплются в дыме искры, — здорово растопил Денис. Горкин смотрит из-под руки на чернеющую народом ледокольню: выглядывает, пожалуй, Василь-Василича.
— Нет, не видать… — говорит Ондрейка, — в сторожке греется.
— Гре-ется… — в сердцах говорит Горкин, голос его дрожит, — хо-рош приказчик! народишка без досмотру… покажем ему сейчас гулянки. Знает, что нездоров хозяин, вот и… и поста не боится, что хошь ему! И Дениска за бабами не смотрит, корзин не считает… — мой себе! хороши, нечего сказать!..
Входим в сторожку. Железная печка полыхает с гулом, от жара дышать нечем. За столиком, из досок на козлах, сидит пламенно-красный Василь-Василич, в розовой рубахе, в расстегнутой жилетке; жирные его волосы нависли, закрыли лоб, а мутный, некосой глаз смотрит на нас в упор. Перед печкой, на куче щепок и чурбаков, впривалку сидит Денис, тоже в одной рубахе, и пробует гармонью. На столике — закопченный чайник, — «ишь, бархатный у меня чайничек!» — бывало, хвалил Денис, — пупырчатые зеленые стаканчики, куски пирога с морковью, обглоданная селедка, печеная горелая картошка и грязная горка соли. А под столиком, в корзинке-колыбельке, — четвертная бутыль зелена-вина.
— Молодцы‑ы… — говорит Горкин, тряся бородкой, — хорошо празднуете… а хозяйское дело само делается?.. а?.. Сколько нонче возков прошло, ну?!.
Денис вскидывается со щепы, схватывает чурбан, шлепает по нем черной лапой, словно счищает грязь, и кричит во всю глотку:
— Гость дорогой!.. Михал Панкратыч!.. во подгадали ка-ак!.. Амененник нонче я… с анделом проздравляюсь… п‑жалуйте пирожка!..
Василь-Василич поднимается грузно, не торопясь, икает, распяливает на нас мутные глаза, — не понимает будто. Сипит, едва ворочает языком, — «сколкаа‑а?..»… — лезет под полушубок, на котором сидел, роется в нем, нашаривает… — и вытаскивает из шерсти знакомую мне истрепанную «книжечку-хитрадку», где «прописано все, до малости». Там, я знаю, выписаны какие-то кривые штучки, хвостики, кружочки, палочки, куколки, цепочки, кочережки, молоточки… — но что это такое, никто, кроме него, не знает. И Горкин даже не знает, говорит — «у него своя грамота-рихметика». Мы молчим, и Денис молчит, смахивает с чурбашка и все пришлепывает. Василь-Василич слюнит палец и водит что-то по книжечке…
— Сколька‑а?.. А вот, Панкратыч… — говорит он с запинкой, поекивает, — та-ак, кипит… х‑роший народ попался… не нахвалюсь… самоходом шпарют… не на… нарадуюсь!.. Сушусь маненько, со-хну… у огонька… ввалился утресь по саму шейку… со-хну!.. До обеда за два ста возков свезли, без запину… так и доложи хозяину… во как! Был, мол, запор… пошабашили, с‑сукины коты, прижимали… завиствовали, скажи… ледовозам сусла, нам по усам!.. В точку привел, Панкратыч… А… для аменин, Денис меня угостил, а я дела не забываю… я, хозяйское добро… в воде не горит, в огню не тонет! Во, гляди, Панкратыч… — тычет он в кривые штучки обмороженным сизым пальцем, — в‑вот, я‑ственно… двести семой возок… за нонче, до обеда!.. А все-навсе… тыща… и триста сорок возков. Два-три дни — и шабаш!.. навсягды оправдаюсь, Михал Панкратыч… потому я… от со-вести!..
Горкин ни слова не говорит, велит мне идти с собой на ледокольню, а Ондрейке забрать ломок и тоже идти за нами.
— Осе… рчал!.. — вскрикивает Василь-Василич и всплескивает руками. — Ну, за что? за что?!.
Он так жалостно вскрикивает, что мне жалко. Слышу на выходе, Денис ему отвечает, и тоже жалостно:
— Ни за что!..
Горкин и на меня сердит; ведет за руку по выбитой на снегу кривой тропинке и чего-то все дергает. Чего он дергает?.. И ворчит:
— Да иди ты, не дергайся!.. Чисто крот накопал, куда ни ступи… позадь меня, сказываю, иди, не тормошись… в прорубку ввалишься, дурачок!.. Ишь, накопал-понапробивал, на самой-то на тропке, и вешки-то не воткнул, дурак!..
Теперь я вижу: пробиты лунки во льду, чуть ледком затянуло только. Спрашиваю, что это.
— Рыбку Дениска на «кобылку» ловит, нет у него делов! Да не оступись ты, за мной иди!..
На какую кобылку?..
Мы выходим на ледокольню.
Тянется темная полынья, плещется на ней «сало», хрустяшки-льдинки. Вдоль нее, по блестящей, будто намасленной дороге, туго ползут возки с сизыми ледяными глыбами. По встречной дороге, рядом, легко несутся порожняки и ростянки с веселыми мужиками. Кричат нам: «йей, подшибу, сворачь!..» Пьяные мужики? Лица у них все красные, как огонь, иные на санках пляшут. Горкин трясет бородкой, повеселел:
— Горшановское-то играет!.. а ничего, дружно работают молодчики.
Подходим к самому ледоколью. Совсюду слышно, как тукают в лед ломами, словно вперегонки; в сверканьи отбрызгивают льдышки; хрупают под ногой хрусталики. Горкин и тут все не отпускает: склизко, хоть до черной воды шажка четыре. Полынья ходит всплесками, густая от мелких льдинок, поплескивает о край, — дышит. Горкин так говорит.
— Михал Панкратычу почет… с праздничком!.. — кричат знакомые мужики с простянок, и все-то гонят.
По краю полыньи потукивают ломами парни, и бородатые. Все одеты во что попало: в ватные кофты в клочьях, в мешки, в истрепанные пальтишки, в истертые полушубки — заплата на заплате, в живую рвань; ноги у них кувалдами, замотаны в рогожку, в тряпки, в паголенки от валенок, в мешочину, — с Хитрого рынка все, «случайный народ», пропащие, поденные. Я спрашиваю Горкина — «нищие это, да?».
— Всякие есть… и нищие, и — «плохо не клади», и… близко не подходи. Хитрованцы, только поглядывай. Тут, милок, и «господа» есть!.. Да так… опустился человек, от слабости… А вострый народ, смышленый!..
Он спрашивает степенного мужика в простянкях, много ли нонче вывезли. Мужик говорит, закуривая из пригоршни:
— Да считал давеча… артельный наш… за триста пошло. А кругом — за тыщу за триста перевалило, кончим в два дни… ишь, как бешеные нонче все! гляди, хитрованцы-то чего наворотили… как Василь-то-Василич их накалил… умеет с ими!..
Я теперь вижу, как это делают. У края ледовины становятся человек пять с ломами и начинают потукивать, раз за разом. Слышится треск и плеск, длинная льдина начинает дышать — еле приметно колыхаться; прихватывают ее острыми баграми, кричат протяжно — «бери-ись!.. навали-ись!» — и вытягивают на снег, для «боя». Разбивают ломками в «сахар», нашвыривают горкой. Порожняки отвозят. И так — по всей полынье, чуть видно.
Высокий, бородатый мужик, в тулупе, стоит поодаль, дает ярлыки возчикам. Это — артельный староста. Здоровается с Горкиным за руку, говорит:
— За два дни покончим. Ну, и молодец Василь-Василич! Совсем было пропадать стали, хоть бросай. Все утро нонче лодырей энтих дожидались, пока почешутся… в полруки кололи. На пивном сусла подносят возчикам, — и им подавай, лодырям! Василь-Василич им уж по пятаку набавил, — нет, сусла нам подавай! А он… что жа!.. «Не сусла вам, братцы, а в мою голову… по бутылке пи-ва, бархатного, златой ярлык!.. И на всяк день по бутылке, с почину… а как пошабашим — по две бутылки, красный ярлык!» Гляди вон, чего наломали, с обеда только… диву дался! народишка-то сбродный да малосильный, пропитой… а вот, обласкал их Василь-Василич, проникся в них… опосле обеда всем по бутылке бархатного поставил. Ну, взял народ… теперь что хошь из него сделает, сумел так.
— Что, молодой хозяин… — Горкин мне говорит, — Вася-то наш каков! И поденных не надо лишних, и ни возков… чего ж его нам пужать-то, а? Пойдем. Дениса с ангелом поздравим. Небось и в церкву не пошел, и просвирки не вынул заздравной, а… намок, как… лыка не вяжет. Да Господь с ним, не нам судить. Вася-то вон в полынью ввалился, показывал, как работать надо, ломком бил, багром волочил… пойдем.
Он ведет меня за руку, не отпускает. Тук-тук, за нами, — и слышно тягучий треск, будто распарывает что крепкое. Мчатся встречу порожняки, задирая лошадям морды, раздирая вожжами пасти, орут-пугают: «эй, подшибу!..»
Уже темнеет, когда возвращаемся в сторожку. Опять вскакивает Денис и шлепает по чурбашку, приглашает Горкина отдохнуть. Василь-Василич совсем размяк, крутит вихрастой головой, пучит на меня косой глаз, еле языком возит:
— Я себя держу строго, ни-ни. Панкратыч… меня знает! У меня… все в порядке. Ласке учил папашенька… и соблюдаю, пальцем не зацеплю!.. Я им ка-ак?.. я им ящик «бархатного» ублаготворил… от себя, старайся у меня только. Пьяницы даже понимают, а уж тверезыи… всю Москва-реку расколю, милиен возков, хошь на всю Москву к завтрему, возьмись только… и больше ничего.
— Ну, Василич. Господь с тобой… — говорит Горкин ласково, — ночуй уж тут, только не угорите, Ондрейку оставлю вам. А ты, Денис… именинник нонче ты… ну, с ангелом тебя, отведаю пирожка… не очень с морковью уважаю.
— Я те, Михал Панкратыч… я вам с этим… с изюмцем у меня! кума, сторожиха банная, спекла, из уважения… рыбки ей для поста иной раз… сбираемся только починать. Да ершиков на «кобылку» с полсотни понатаскал… несите папашеньке, ушка будет. Ввалился он намедни, настудился… ах, как же работать они умеют, для показа. Горяченькой ушицы, ершиков поглодать… — рукой сымет! Откушайте с нами, Михал Панкратыч… уважаю вас, как вы самый крестный есть Марье Даниловне… поклончик от меня им… да пивка бархатного, хочь пригубьте только… амененник нонче я… Дениса нонче!..
И мне дают сладкого пирожка с изюмцем, на газетинке. Я ем в охотку, отпиваю и «бархатного», глоточек, дозволил Горкин. Пирую с ними и разглядываю сторожку.
На стенке у окошка прилеплен мякишем портрет Скобелева из газетки, а с другого боку — портрет нашего царя, с хохлом и строгими глазами. А под ним — розовая дама с голой шеей, с конфетной коробки крышечка: очень похожа на Машу нашу, крестницу Горкина, такая же вся румяная. А в уголочке — бумажный образок Иверской. Тускло горит-чадит лампочка-коптилка, потрескивает-стрекает печка.
Входит, пригибая голову, артельный староста, всю сторожку закрыл своим тулупом. Говорит:
— Пошабашили. Записывай, Василь-Василич: всего за день — четыреста пятьдесят возков, послезавтра в обед покончим.
— Налей ему… хороший мужик… — говорит Косой и начинает нашаривать в полушубке, под собою.
Денис, бережно, достает с полу, из «колыбельки» четвертуху и наливает стакан артельному. Артельный крестится на Скобелева, неспешно выпивает, крякает закусывает пирогом с морковью.
— Благодарим покорно… с анделом, значит, вас… — сипло говорит он и утирается бородой, — Намаялся-заснул, сердешный… — мотает он на Василь-Василича, сложившего голову на столик, — Золотой человек, а то бы как намаялись, с энтими, с пропойными… За свой карман, говорит, пивка им приказал… «мне, говорит, хозяин тыщи доверяет… как же малости этой не поверить!..» Прямо, золотой человек.
Василь-Василич всхрапывает. Я знаю, — любит его отец. И я его люблю. Я пропел бы ему басенку про Лису, да спит он. Артельный спрашивает, — расчет-то будет, ждут мужики. Василь-Василич встряхивается, потирает глаза, находит свою книжечку и будто шепчет — вычитывает что-то.
— Сорок подвод… по ряду, по восемь гривен… получай. По пятаку от меня, на…баву. Сергей-Ваныч мне поверит… за удовольствие…
Он достает из-за голенища валенка пакет из сахарной бумаги, синей, и слюнит липкие желтенькие рублевки.
Потом приходит старший от поденных, в ватной кофте и солдатском картузе с надорванным козырьком, с замотанными в мешок ногами, стеклянными. Под набухшими, мутными глазами его висят мешочки. И ему подносят. Пьет он, передыхая, морщась, и не до донышка, как артельный, а сплескивает остаток. Кусок пирога завертывает в газетку и прячет за пазуху, — закусывает только луковой головкой. Бумажки считает долго, дрожащими руками, и… просит еще «стакашку». Денис наливает радостно. Старший не крякает, а издает протяжно — «а‑ты, жи-ись!..» крестится на нас и повертывается солдатски-лихо.
— Проздравил бы амененничка-то, Пан-кратыч… а? — говорит Василь-Василич. — Знато бы, хереску бы те припас, а то… икемчику… По-ост, вона что. Ну, мы с Деней поздравимся, теперь можно, а?..
Они выпивают молча. У Василь-Василича пушистая золотая борода. Я вспоминаю басенку:
А хвост такой пушистый, раскидистый и золотистый!
Нет, лучше подождать… ведь спит еще народ,
А, может быть, авось оттепель придет,
Так хвост от проруби оттает…
Вижу длинную полынью и льдины, — и там Лиса. Пропеть им басенку? Но никто не просит.
— Зеваешь, милок… домой пора… — вспугивает дремоту Горкин. — Кривая наша, небось, замерзла.
Василь-Василич спит на столике. Денис провожает нас, тычется на снегу. Горкин велит ему спать ложиться, наказывает Ондрейке смотреть за печной, — «и угореть могут, и, упаси Бог, сгорят… стружки-то отгреби от печки!».
Едем по темной улице, постукивают лубянки на зарубах, будто это с реки: — ту-тук… ту-тук… Видится льдина, длинная… дышит, в черной воде колышется, льдисто края сияют, и там — Лиса.
Вот, ждет-пождет,
А хвост все боле примерзает.
Глядит — и день светает…
— Приехали, голубок. Снежком-ледком надышался… ишь, разморило как…
Снимают меня, несут… — длинное-длинное дышит, в черной воде колышется, — хрустальная, диковинная рыба… ту-тук… ту-тук… «бери-ись… нава-ли-ись…».
Петровками
«Петровки» — пост легкий, летний. Горкин называет — «апостольский», «петро-павлов». Потому и постимся, из уважения.
— Как так, не понимаешь? Самые первые апостолы. Петра-то-Павел, — за Христа мученицкий конец приняли. А вот. Петра на кресте язычники распяли, а апостолу Павлу главку мечом посекли: не учи людей Христову слову! Апостол-то Петр и говорит им: «я креста не боюсь, а на него молюсь… только распните меня вниз головой!»
— Почему вниз головой?
— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой кончины на Кресте», у язычников так полагается, на кресте распинать, — «я хочу за Него муки принять, вниз меня головой распните». А те и рады, и распяли вниз головой. Потому и постимся, из уважения.
— А апостола Павла… главку ему мечом?.. а почему?
— Ихний царь не велел. Не то, чтобы добрый был, а закон такой. Апостол Павел римский язычник был, покуда не просветился… да какой был-то, самый лютый! все старался, кого бы казнить за Христово Слово. И пошел он во град Дамаский христиан терзать. И только ему к тому граду подходить, — ослепил его страшный свет! и слышит он из того света глас: «Савл, Савл! почто гонишь Меня? не сможешь ты супротив Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том свете. Он и ослеп, со свету того. И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые молились за него. С той поры уж он совсем другой стал, и имя свое сменил, стал Павлом. И стал Христа проповедывать. А по пачпорту-то — все будто язычник ихний. А у рымских язычников своих распинать нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли мечом. Вот и постимся Петровками, из уважения.
Петровками у нас не строго. И пора летняя, и не говеем. Горкин только да Марьюшка соблюдают строго, даже селедочки не едят. А Домна Панферовна, банная сторожиха, та и Петровками говеет, к заутреням и вечерням ходит. Горкин тоже говел бы, да летнее время, делов много, — подряды, стройки… — ну, рождественским постом отговеет да Великим Постом два раза обязательно.
На дачу мы не поедем, на Воробьевку, — мамаше нездоровится. Горкин мне пошептал, на приставанья с дачей: «скоро, может, махонький братец, а то сестрица у те будет, вот и не нанимали дачу».
— Папашенька обещался на то лето в Воронцове дачу нанять, там и ягода всякая, и грибов что… и карасики в прудах, приеду к тебе — карасиков обучу ловить. Да чего нам с тобой на дачу, у нас Москва-река под рукой. Выпадет денек потеплей, мы с тобой и закатимся погулять, белье вот повезут полоскать. Харчиков захватим, на травке посидим-закусим, цветочков-желтиков насбираем, свербички пожуем… и рыбки живой прихватим у Дениса, у него всегда в садке держится про запас.
И вот, выдался денек жаркий-жаркий, ни облачка на небе. Вот бы на Москва-реку-то! А сестрица Соня, как на грех, басню задала выучить. Я у ней большую коробку с бисером рассыпал. Заставила меня до единой бисеринке все собрать да еще «Вола и Кота» выучить, большущую! Ну, басня-то пустяки, я ее за час выучил отлично. Софочка даже не поверила — «врешь, врешь!» — я ей и ответил, без запинки….а она — «врешь, врешь! ты ее раньше, должно быть, знал!» — и опять за свое — «изволь все, до бисеринки». Хотел половой щеткой, сразу, а она… учительница какая! — «нет, с пылью мне не нужно, а ты мне все по бисеренке соберешь, учись терпению!..» И вдруг…
— Сбирайся, милок, на дачу с тобой едем! — кричит под окном детской Горкин и велит Антипушке запрягать Смолу, — Кривая наша чего-то захромала, ноги у ней заплыли, от старости, пожалуй.
Я знаю, что это не «на дачу», а на Москва-реку, полоскать белье. Бисер еще не собран, но Горкин уж отпросил меня Сонечка говорит — «ну, уж беги, лентяюшка, бей баклуши». Лето у всех, а меня мучают, все каким-то экзаменом стращают, а до него еще года два, за два-то года все и помереть успеют, Горкин говорит.
Под навесом запрягают старика Смолу. Жалко старика, из уважения только держим. Ноги у него в наплывах, но до Москва-реки нас дотащит. Все-таки животное существо, жалко татарину под нож отдать, и все-таки заслуженный, сколько всякого матерьяльцу перевозил на стройки, и в Писании сказано — скота миловать. А на Москва-реке теперь живая дача, воздух привольный, легкий, ни грохоту, ни пыли, гуляй-лежи на травке, и огонек можно разложить, бутошники не загрозятся.
Горкин — в майской поддевочке, кричит молодцам выносить белье. Я бегу к Марьюшке. Она говорит — «будя с тебя. Панкратыч хлеба краюху взял, и луку зеленого, и кваску… какие еще тебе разносолы, Петровки нонче!» — и дает пирожка с морковью, из печи только. Едут с нами горничная Маша, крестница Горкина, и белошвейка Глаша, со двора, такие-то болтушки, женихи только в голове, — с ними нам не компания, пусть их свое стрекочут. Сидим с Горкиным впереди, правим, — со Смолой умеючи тоже надо. Можно и без пальтишки, теплынь, и Москва-река теперь согрелась, июнь месяц. По улице сапожники-мальчишки в окошко глядят, завидуют. Невеселая жизнь сапожницкая, — плотничья наша куда лучше! Как можно… — плотник и купальни ставит, и дачи строит, при живом дереве всегда, на воле, и сравнения никакого нет. А струмент взять: пила, топорик, струбцинка… и рубанки тебе, и фуганки, и шершебель… не сравнять никак. Сапожник на «липке» весь век живет, а плотник — вольная птица: нонче он тут, а завтра под Коломну ушел… и со всяким народом сходишься, — как можно! А то старинные хоромы ломать в именьях… чего только не увидишь, не услышишь!..
Ехать недалеко. Сворачиваем налево вниз, на Крымок, мимо наших бань, по Крымскому Валу, а вон уж и мост синеет, скозной, железный, а тут и портомойни. Слева, за глухим забором, огромный Мещанский Сад: тянет прохладой, травкой, березой, ветлами… воздух-то какой легкий, птички поют, выводят свои коленца: зяблики, щеголки, чижи… — фити-фити-фью‑у… чулки-чулки-паголенки! Кукушка вот только не кукует. По зорькам и соловьи поют, а кукушка статья особая. Годов тому двадцать и кукушки тут куковали, а теперь беспокойно, к Воробьевке уж стали подаваться.
— Тут кукушке не удержаться, — говорит Горкин, — нелюдимая она птица, кара-ктерная. У каждой птицы свое обычье. Малиновка вот, — самая наша, плотницкая, стук любит и пилу-рубанок… тонкую стружку в гнездышко таскает. И скворец, вовсе дворовый. Дро-озд? Какой дроздок… черный, березовик, не любит шуму. Его слушать — ступай к Нескушному, березы любит.
Чего только не знает Горкин! Человек старинный, заповедный.
Едем высоко, по валу. По обе стороны, внизу, зеленые огороды, конца не видно, направо — наша водокачка, воду дает с Москва-реки. Ночью тут жу-уть, глухой-то-глухой пустырь.
— Застраивается помаленьку, теперь не особо страшно. А вот кукушки когда водились, тут к ночи и не ходи!
— А что… разденут?..
— Это что — разденут… а то душегубы под мостом водились, чего только тут не было! Вон, будка у моста, Васильев-бутошник, там живет. Он человек законный, а вот, годов двадцать тому, Зубарев тут жил-сторожил. Вот и приехали. Погоди ты, про Зубарева… распорядиться надо.
Смола рад: травку увидал, скатывает весело под горку. Портомойщик Денис, ловкий солдат, сбрасывает корзины, стаскивает и Машу с Глашей, а они, непутевые, визжат, — известно, городские, набалованные. Ну, они своим делом займутся, а мы своим. Река — раздолье, вольной водицей пахнет, и рыбкой пахнет, и смолой от лодок, и белым песочком, москворецким. Налево — веселая даль, зеленая, — Нескучный, Воробьевка. Москва-река вся горит на солнце, колко глазам от ряби, защуришься… — и нюхаешь, и дышишь, всеми-то струйками; и желтиками, и травкой, и свербикой со щавельном, и мокрыми плотами-
смолкой, и бельецом, и согревшимся бережком-песочком, и лодками… — всем раздольем. До того хорошо, — не знаешь, что и делать. С Москва-рекой поздороваться! Сидим на корточках с Горкиным, мочим голову.
— Кормилица наша, Москва-река… — говорит Горкин ласково, зачерпывая пригоршней, — всю-то исплавали с папашенькой. И под Звенигородом, и под Можайском… самая сторона лесная, медведи попадаются. И до Коломны спускались. И плоты с барками гоняли — сводили рощи, и сколько разов тонули… всего видано. Подрастешь вот — погоним с тобой плоты…
Дышит будто Москва-река, качаются наши лодочки — «Стрела», «Ласточка», «Юла», «Рыбка»… — поплескивает об них, бабы белье полощут. Светится под водой, будто серебрецо, — раковинка-речнушка. Говорят, живая к берегу не подходит, а как отживет — обязательно ее выплеснет. Живет на самой на глыби где-то.
— Про это хорошо Денис знает. Ну-ка, Денис, скажи.
— Я мырять хорошо умею, — говорит Денис, присаживаясь с нами; смолой от него пахнет и водочкой, а лицо у него коричневое, как кожа, и все-таки он такой красивый, быстрые у него глаза, мне нравится. — В самую глыбь мырял. Речнушек энтих… и все-то ды-шут! Так вот — а‑а-а‑а… крышечки подымают. И раки по ним ходят, усатые… будто мужья у них. И рыбка, понятно, всякая. А я утопленницу искал… портнишечка с Бабьего Городка купалась, там вон… насупротив Хамовников, вон пожарная каланча где… глыбко тама, дна не достать. Мырнул… — и вижу… зеленым-зеленый свет! И лежит, стало-ть, на зеленом на песочке белое тело… ну, белым-то белое-разбелое… как живая, вся в своем образе природном, спит будто. А вкруг ее все речнушки эти, дышут… крышечки подымают. Ну, до чего ж хорошо! Будто рады, песни ей будто свои поют, крылышками махают. Обрадовался я ей, как родной сестрице, под плечико ее прихватил, вымахнул… ну, вовсе другая уж, на живом свету, синяя-рассиняя, утоплое тело. Там — все другое, свое. Я реку знаю, там у них свои разговоры. Верно, выплескивает речнушку, как отживет… как мы все равно своих хороним. А они выплескивают.
Серебрится Москва-река, молчит. Что у ней там, на глыби? И что — за кудрявыми Воробьевыми Горами? Поехать бы с Горкиным и Денисом на «Стреле», далеко-далеко, в лесную сторону, на самый-то конец Москва-реки!
Все бы узнали, все разговоры ихние, чего никто не знает.
— А еще чего хорошенького скажи.
— Я все на реке, много знаю. Как человеку утопнуть, дня за три еще раки наваливаются. Намедни у нас писарь с перво-градской больницы утоп, так за три дня рака навали-лось… на огонек ночью наползли… весь песок черным-черный! Я сот пять насбирал, за пять целкачей в трактир продал, к пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти… у них своя примета. К холодам — и не понять, куда денутся! Опущусь — где мои речнушки? Ни разъединой. А вода непогоду чует… мутнеть за неделю еще начнет, и рыба — шабаш, брать бросает, уклейка балует только. Там у них свой порядок.
Рассказывает нам, и все на портомойни глядит, — за выручкой следит? У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши… — всякая снасть. И рыбка всегда живая, на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут, и все хохочут. Ноги у них белые-белые, — «чисто молошные», говорит Денис:
— На белой булочке все, балованные. А что, Михаила Панкратыч, с конторщиком-то у Маши не вышло дело?
— А тебе какая забота? Ну, не вышло… пять сот приданого желает.
— Пя-ать со-от?!! А сопляк сам. За меня бы пошла… в шелках бы ее водил, а не то что… пя-ать со-от!..
— Припас шелки-то?..
— Дело это наживное… шелки. На одном раке могу на любое платьице… коль задастся… — А коли не задастся? На водчонку-то у те задастся…
— Водчонку мы тогда побоку… Поговорили бы, Михал Панкратыч… крестный ей. Летось намекал ей — и пить брошу… ну, рыбку ловить бросить не могу, — все-то меня корит — «шут речной, бродяга…» — это что на реке ночную… характер мой такой, не могу. А так — остепенюсь, зарок дам… — глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой. — Это она выпимши меня видала, пошумел я… А я брошу… поговорите, Михал Панкратыч.
Мне жалко Дениса: смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю:
— Поговори, голубчик Горкин!
Горкин не отвечает, бородку потягивает только.
— Как остепенюсь, папашенька мне обещали… к Яузскому мосту взять, там больше лодочек, доходишка от гуляющих больше набежит… поговорили бы, Михал Панкратыч…
— Уж к тридцати тебе скоро, постепенней бы каку приглядел, а не верткую. Маша… хорошая наша, худого не скажу, да набалована она, с ней те трудно будет. И непоседа ты…
— Я потишей буду, Михал Панкратыч… — вздыхает Денис.
— Поговори, Горкин, — прошу его, — Они будут в домике жить, и у них детки разведутся… и мы в гости будем к ним приезжать…
Денис схватывает меня, колет усами щечку.
— Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то!..
Он входит со мной в Москва-реку, идет в воде по колена. У большого камня, который называется «валун-камень», он останавливается и шепчет:
— Гляди в воду, сейчас отмутится…
Белый песочек видно, и вот — длинные черные прутики шевелятся под камнем… что такое?!.
— Не желаешь вылазить… ла-дно. Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, достает огромного рака, черным-то-черного, не видано никогда.
— Это старшой у них, никогда его не беспокою, давно тут проживает. Такая у меня примета: уйдет мой рак — и мне нечего тут жить — ждать… не выходит мне счастья, значит. А покуда гожу, может, и сладится мое дело.
И сажает рака под «валун-камень». Я слышу знакомую песенку, поет Маша тоненьким голоском:
На серебряной реке‑э,
На златоом песо-о-чке‑э…
Мы подтягиваем с Денисом:
Долго де-э-вы моло-до‑й
Я стерег следо-о-очки‑и…
— Эх, — говорит Денис, — следочки!..
Выносит меня на портомойку, несет мимо нагнувшейся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жгутом Машу по спине и кричит: «следочки!» И она шлепает Дениса, а он пригибается со мной и приговаривает: «а ну еще… а ну?..» И Глаша, и другие принимаются хлестать нас… Денис кричит — «ребенка-то зашибете!..» — и бежит со мной по плотам.
Горкин кричит сердито:
— Чего дурака ломаешь, да еще с дитей?! время не знаешь?!
А мне и не больно, а весело. Денис просит прощенья и все говорит — «поговорите ей, Михал Панкратыч… мочи моей нет, душа иссохлась».
Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонью и начинает играть. Я знаю это — «Не велят Маше за реченьку ходить… не велят Маше молодчика любить…». Хорошо играет, Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов в смехе:
— А ну, сыграй любимую-то свою — «вспомни-вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь»! — и все хохочет.
И Глаша хохочет, и все бабы. Денис кладет гармонью и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебцем с зеленый луком.
— Каки мы с тобой сваты, не наше это дело. И не хозяйственный, солдат отлетный… и водчонкой балуется. Человек несостоятельный. Рыболовы — уж известно, непоседливы. Пирожка-то… Не очень я с морковью-то уважаю… Допрежде любил, а как угостил нас с Василь-Василичем Зубарев-бутошник, у моста-то жил, с той поры и глядеть не могу, с морковью-то… с души воротит. А вот. Такое было дело, страшное. Это как разбой тут шел, душегубы под мостом водились, мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать, домой скоро собираться надо, бельецо-то вон кончили полоскать, и дело меня ждет. Ну, что ты пристал — скажи да скажи! Ну, у Зубарева чай пили с пирогом… с морковью пирог был… А у него в подпольи мертвое тело лежало… богатого огородника, воробьевского, с душегубами теми убил-ограбил. А мы, не знамши-то ничего, над ним пировали… как раз в именины его. Зубарева-то… Алексея-Божья Человека, в марте месяце… чуть не силом затащил к себе, возили ледок у нас тут, еще, помню, морозик был. Ну, и закусывали пирожком, с морковью… с кровью будто, вышло-то так. Опосле того не ем с морковью. Ну, что ты… неотвязный какой!.. ну, бы-ло…, ну, сыщик Ребров… гроза на воров был!.. — все дело раскрыл, ух ты, как раскрывал!.. Да все те рассказывать — и дня не хватит. Ну, судили… Домой вот приедем…
Смола отдохнул на травке. Денис взваливает на полок тяжелые корзины с бельем. Подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, а она отвертывается к Глаше и все-то хохочет, глупая. Жалко с Москва-рекой прощаться, со всем раздольем, со всем, что на ней и в вей, и там, далеко, за Воробьевкой, за Можайском… Чего там не видано, не слыхано!
Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще в горку надо. Тянет его Денис, а он ни с места: с ним тоже надо умеючи. Горкин начинает его оглаживать. Денис уходит…
Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маша кричит ему:
— Нас что ж не провожаешь?..
— А вот, годи, провожу!.. — отвечает Денис с реки. Смола сворачивает на травку и останавливается. Подходит Денис, кричит Маше — «вот тебе жених!» — и что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье. Черное что-то падает на дорогу, в пыль… и я вижу большого рака, как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он «шейкой». Горкин велит Денису заворотить Смолу, сердится.
Возьми себе поиграть… — говорит мне Денис, и завертывает рака в большой лопух. — Ушел мой рак, и мне уходить надо. Возьму расчет, Михал Панкратыч… пойду под Можайск, на барки.
Говорит он не своим голосом, будто он заболел.
— А нас с Машухой не прихватишь? — смеется Глаша, — как же нам без тебя-то?..
Маша не говорит: сердится будто на Дениса, — за рака сердится? А мне так жалко, что рак ушел: не будет теперь Денису счастья.
Денис подпирает полок плечом, и Смола трогает. Я говорю Денису:
— Возьми рака, пусти под «валун-камень»!.. Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно, и говорит, уже веселей:
— Пустить, а? Ну, ладно… пущу на счастье. Только мы двое про рака знаем.
— Прощевайте… — говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит:
— Не скучай, найду тебе невесту! В подпольи у нас живет, корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит… как раз по тебе!.. — и все хохочет.
— А смеяться над человеком не годится, он и то от запоя пропадает… — говорит ей Горкин, — надо тоже понимать про человека. А дражнить нечего. Погодь, прынца тебе посватаем.
Маша молчит, глядит на Москва-реку, где Денис. А он все глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и «дача» кончилась, гремит по камням полок, едут извозчики. А Денис все стоит и смотрит.
Н. И. и Н. К. Кульман
Крестный ход
«Донская»
Завтра у нас «Донская». Завтра Спас Нерукотворный пойдет из Кремля в Донской монастырь крестным великим ходом, а Пречистая выйдет Ему навстречу в святых воротах. И поклонятся Ей все Святые и Праздники, со всех хоругвей.
У нас готовятся. Во дворе прибирают щепу и стружку, как бы пожара не случилось: сбежится народ смотреть, какой-нибудь озорник-курильщик ну-ка швырнет на стружку! а пожарным куда подъехать, народ-то всю улицу запрудит. Горкин велел поставить кадки с водой и швабры, — Бог милостив, а поберечься надо, всяко случается.
Горкин почетный хоругвеносец, исконный, от дедушки. У него зеленый кафтан с глазетовой бахромой серебряной, а на кафтане медали. Завтра он понесет легкую хоругвь, а Василь-Василич тяжелую, в пуд, пожалуй. А есть, говорят, и под три пуда, старинные, из Кремля; их самые силачи несут, которые овсом торгуют. У Горкина нога стала подаваться, отец удерживает его, но он потрудиться хочет.
— В последний, может, разок несу… — говорит он, вынимая из сундука кафтан. — Ну, притомлюсь маленько, а радость-то какая, косатик… встретятся у донских ворот, Пречистая со Спасителем! и все воспоют… и певчие чудовские, и монахи донские, и весь крестный ход — «Царю Небесный…» а потом — «Богородице Дево, радуйся…»! И все-то хоругви, и Святые, и Праздники, в золоте-серебре, в цветочках… все преклонятся пред Пречистой… Цветочки-то почему? А как же, самое чистое творение, Архангел Гавриил с белым цветочком пишется.
Завтра сестрицы срежут все цветы в саду на ваши казанские хоругви: георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы. Павел Ермолаич, огородник на нашей земле у бань, пришлет огромных подсолнухов и зеленой спаржи, легкий, в румяных ягодках, — будет развеваться на хоругвях. Горкин с Василь-Василичем сходили в баню, чистыми чтобы быть. Горкину хочется душу на святом деле положить, он все «Спасы» носил хоругви, кремлевские ходы ночные были, — в чем только душенька держится. Отец шутит — «как тебе в рай-то хочется… напором думаешь, из-под хоругви прямо! да ты под кремлевскую вступи, сразу бы и…». А он отмахивается — «куда мне, рабу ленивому… издаля бы дал Господь лицезреть».
Привезли красного песку и травы — улицу посыпать, чтобы неслышно было, будто по воздуху понесут. У забора на Донскую улицу плотники помосты намостили — гостям смотреть. А кто попроще, будет глядеть с забора, кто где уцепится. Прошли квартальные, чисто ли на заборах, а то мальчишки всякие слова пишут, — полицмейстер еще увидит! Собак велено привязать. Наро-ду-то повалит завтра — на протуваре не устоять.
Антипушка привез из Андреевской богадельни Марковну, слоеные пироги печь. Пироги у ней… — всякого повара забьет, райские прямо пироги, в сто листиков. Всякого завтра народу будет, и почетные, и простыв, — со всей Москвы. Уж пришел редкостный старик, по имени Пресветлый, который от турки вырвался, половину кожи с него содрали, душегубы, — идолу ихнему не поклонился. Афонский монах еще, который спит во гробу, — послали его лепту собирать. И все, кто только у нас работал, все приползут из углов, из богаделен. Август месяц, погода тепли, и торжество такое, — все Святые пойдут по улицам, — как же не поглядеть. И угощенье будет: калачи, баранки, а чайку — сколько душа запросит. Две головы сахару-рафинаду накололи на «прикуску», С вечера набираются: кто — в монастырь пораньше, а кто не в силах — место бы на заборе захватил.
Кондитер Фирсанов прислал повара с поваренком и двух официантов, — парадный обед будет. Сам с главными поварами в Донском орудует, монахи заказали: почетные богомольцы будут. Дядя Егор с нашего двора, — у него дом напротив нашего, крыльцо в крыльцо, и ворота одни, от старины, и у него завод кирпичный за Воробьевкой — монахов не любит, всегда неладное говорит про них. Тут и говорит:
— Донские монахи эти самые чревоугодники, на семушку-на икорку собирают, богачей и замасливают. Фирса-нова им давай! Их бы ко мне на завод, глину мять, толсто… — и очень нехорошо сказал.
А Горкин ему тихо-вежливо:
— Не нам судить… и монахи неодинаки.
Завтра будет у нас на обеде Кашин, мой папаша-крестный. И, может быть, даже и сам Губонин, который царю серебряного мужичка поднес, что крестьян на волю отпустил. У нас рассказывали, что государь прослезился в поцеловал Губонина. Он теперь все железные дороги строит, а ума у него… — ми-нистр.
Вот Марковна и старается, раскатывает тесто, прокладывает маслом и велит относить на лед. А у Кашина много векселей, и если захочет кого погубить, подаст векселя на суд, придут пристава с цепями и на улицу выбросят. Отец ему должен, и дяде Егору должен, строил бани из кирпича. Горкин мне сказывал, что папашенька после дедушки только три тысячки в сундуке нашел, а долгов к ста тысячам, вот и приходится вертеться. Дедушка на каком-то «коломенской дворце» много денег потерял, кому-то не уступил чего-то, его и разорили. Ну, Господь не попустит выбросить на улицу, много за папашеньку молельщиков. Кашин все говорит — «народишко балуешь!» — смеется: не деловой папашенька. И грозится будто. А все потому, что отец старичкам дает на каждый месяц, которые у нас работали, как-то дознался Кашин. А отец сказывать не велит; лепту надо втайне творить, чтобы ни одна рука не знала. Ну, да скоро выкрутится, Бог даст, — Горкин мне пошептал, — «бани стали хороший доход давать». Вот угостить и надо. Да и родни много, а «Донская» у нас великий праздник, со старины, к нам со всей Москвы съедутся, как уж заведено, — все и парадно надо.
К вечеру все больше народу наползает, в мастерской будут ночевать. Кипит огромный самовар-котел, поит пришлых чайком Катерина Ивановна, которая лесом торговала, а прогоревши, — по милосердию, Богу предалась, для нищих. Смиловался Господь, такого сынка послал — на небо прямо просится, одни только ноги на земле: всех-то архиереев знает, каждый день в церковь ходит, где только престольный праздник, и были ему видения; одни дураком зовут, что рот у него разинут, мухи влетают даже, а другие говорят, — это он всякою мыслею на небе. Катерина Ивановна обещалась, что Клавнюшка на заборе с нами посидит завтра, будет про хоругви нам говорить, — все-то-все-то хоругви знает, со всей Москвы! А сейчас он у всенощной в Донском, и Горкин тоже.
Сидят всякие старички, старушки в тальмах с висюльками, в парадных шалях, для праздника; вынули из сундуков, старинные. Все хотят сесть поближе к Пресветлому, старому старику, который по богомольям до-ка. У Пресветлого все лицо желтое-желтое, как месяц, и сияние от него исходит, и весь он — коленка лысая. Рассказывает, как его турки за веру ободрали, — слушать страшно: — «воочию, исповедник и страстотерпец!» — говорят, знающие которые. Рядом с ним сидит Полугариха из бань, которая в Ерусалим ходила, а теперь в свахах ходит, один глаз кривой, а язык во-острый, упаси Бог, какой! Горкин ее не очень любит, язвительная она, но уважает за благочестие. Тут и барин Энтальцев, прогорелый, ходит теперь с Пресветлым по знакомым домам, — собирают умученным за веру. Тут и моя кормилка Настя, — сын у нее мошенник, — и старый конопатчик с одной ногой, и кровельщик Анисим, который с крыши свалился, и теперь у него руки сохнут. И все калеки-убогие, нищета. А всем хочется поглядеть «Донскую», молодость вспомянуть.
Полугариха все пристает к Пресветлому — «покажи, где у тебя кожа содрана!» — а он людей стесняется, совестно показать. А она ему язык вострый, — «мученик-то ты липовый!». Старик говорит умилительно, покорливо: «„да веру имуть!“ — рече Господь… а кто без показу не имать веры, то и язвы не укрепят». А Полугариха донимает: «а какой Гроб Господень?» — она-то знает. А он ей опять разумно: «этого словом не сказать, уму непостижимо». А она его все шпыняет: «да ты и в Ерусалиме-то не был!» А он ей — «помолчим, помолчим…» — к смирению призывает. «А гору сорокаверстную видел?» Он и про гору отмолчался. А она сорок дней-ночей на гору ползла, и ее арап страшный пикой спихнуть хотел, выкуп чтобы ему дала. Тут стали уж говорить маловеры… — верный ли тот старик. А Полугариха еще пуще: «не с Хитрова ли рынка… кожу-то в кабаке чинил?» Тут уж барин Энтальцев заступился: есть у старика бумага с печатями, там про кожу прописано, сам губернатор припечатал. А Пресветлый стал наставлять:
— Сказал Господь: «гневом пройду по земле, погляжу, как нечестивые живут!» Вот завтра и пойдет по улицам, со всеми Святыми, и поглядит, как живут. А как мы живем? как мы завтра будем дерзать на святые лики? Разве так Господа встречают?!. поглядел я у вас: повара ра-ков толкут… — а это он видал, как раковый суп для преосвященного готовили, приедет, может быть, если у монахов обедать не останется, — и тучного тельца заклали, и всякое спиртное приуготовлено!.. А что сказано? Раздай имение свое и постись всечасно. Все мы поганые, недоверы.
А Полугариха опять за свое: «а сам к калачам приполз?» Барин Энтальцев заступился, а она — «молчи, дворянская кость, чужая горсть! дом-то на Житной пропил, теперь чужие опивки допиваешь?..» Он тросточкой на нее постучал и на картузе «солнышко» показал, на красном:
— Мне государь пожаловал, а ты, гадина кривая, в Ерусалиме по горе ползала, а гробовщикову дочку загубила, за пьяницу-мушника сосватала… двоих ребят прижил с белошвейкой!..
А старик Пресветлый закатил белые глаза под лоб, воздел руки и закричал:
— Господи! на что завтра поглядишь, с хоругвей? как мы Тебя встречаем?
И зарыдал в ладони. Тут все стали сокрушаться, и Полугариха пронялась, стала просить прощения у Пресветлого, что это она со злости, весь день голова болит, себя не помнит. Ей Энтальцев и сказал ласково: «болит — значит опохмелиться просит, да ты греха боишься… лучше опохмелиться сходим, сразу от языка оттянет!» Все и развеселились, и стали сокрушенно воздыхать: «что уж тут считаться, все грешные…» И тогда скорняк стал рассказывать, как Сергий Преподобный дал князю Дмитрию Донскому икону Богородицы и сказал: «иди, и одолеешь татар-орду». И вот та самая икона и есть — «Донская». Вот потому и празднуем. И стали говорить: «то были князья-татары, властвовали над нами, а теперь шурум-бурум продают… вот Господь-то что делает с гордыми!..»
Вот и «Донская» наступила. Небо — ни облачка. С раннего утра, чуть солнышко, я сижу на заборе и смотрю на Донскую улицу. Всегда она безлюдная, а нынче и не узнать: идет и идет народ, и светлые у всех лица, начисто вымыты, до блеска. Ковыляют старушки, вперевалочку, в плисовых салопах, в тальмах с висюльками из стекляруса, и шелковых белых шалях, будто на Троицу. Несут георгины, астрочки, спаржеву зеленцу, — положить под Пречистую, когда поползут под Ее икону в монастыре. С этими цветочками, я знаю, принесут они нужды свои и скорби, всякое горе, которое узнали в жизни, и все хорошее, что видали, — «всю свою душу открывают… кому ж и сказать-то им!» — рассказывал мне Горкин. Рано поднялись, чтобы доковылять, пока еще холодок, не тесно, а то задавят. Идут разносчики: мороженщики, грушники, пышечники, квасники, сбитенщики, блинщики, пирожники, с печеными яичками, с духовитой колбаской жареной; везут тележки с игрушками, с яблоками, с арбузами, с орехами и подсолнушками; проходят парни с воздушными шарами. У монастыря раскинутся чайные палатки, из монастырского сада яблоки будут продавать, — «донские» яблоки славятся, особенно духовитые — коричневое и ананасное.
Горкин с Василь-Василичем, и еще силач Федя, бараночник, ушли к Казанской: выйдут с хоругвями навстречу ходу. Девятый час: ход, говорят, у Каменного моста, — с пожарной каланчи знать дали. На заборе сидит народ: сапожники, скорняки, бараночники, — с нашего двора. С улицы набежали, на крыши влезли. И на Барминихином дворе, и у Кариха, нашего соседа, и через улицу: везде зацепились на заборах, на тополях. Кричат совсюду:
— У Казанской ударили! идет!!.
На помосте перед забором расселись на скамейках наши домашние и гости. Отец в Донской монастырь поехал. Крестный, Кашин, только к обеду будет, а Губонин, говорят, поехал какой-то Крым покупать. Дядя Егор посмеивается над нами: «наняли поваров, а Губонин наплевал на вас!» И над Катериной Ивановной трунит: архиереям рясы подносит, а сынишка в рваных сапогах шлендает! Клавнюшка смиренно говорит:
— Что ж, дяденька… Спаситель и босиком ходил, а бедных насыщал.
А дядя Егор ему: «эн, куда загибаешь!»
Ну, слушать страшно.
Дядя Егор очень похож на Кашина: такой же огромный, черный, будто цыган, руки у него — подковы разгибает; все время дымит кручонками — «сапшал», морщится как-то неприятно, злобно, и чвокает страшно зубом, плюет сердито и всех посылает к… этим, чуть не по нем что. Кричит на весь двор, с улицы даже на нас смотрят:
— И чего они… — эти! — там по-лзут!.. — ну, черным словом! — канитель разводят, как…! про Крестный ход-то!
Тетя Лиза ахает на него, ручками так, чтобы утихомирить:
Е‑го-ор Василич!..
А он пуще:
— Сроду я все Егор Василич… сиди-молчи!..
Клавнюша, в страхе, руками на него так и шепчет:
– «… и расточатся врази Его…»
Донская густо усыпана травой, весело, будто луг. Идут без шапок, на тротуаре местечка нет. Прокатил на паре-пристяжке обер-полицмейстер Козлов, стоиком в пролетке, строго тряся перчаткой, грозя усами, выкатывая глаза: «стро-го у меня!..» Значит — сейчас начнется. И вот, уж видно: влево, на Калужском рынке, над чернотой народа, покачиваются в блеске первые золотистые хоругви…
— Идет!.. иде-от!!.
Подвигается Крестный ход.
Впереди — конные жандармы, едут по обе стороны, не пускают народ на мостовую. Карие лошадки поигрывают под ними, белеют торчки султанчиков. Слышится визг и гомон:
— Ах ты, ст……!.. выскочила, прокля……
Гонят метлами с мостовой прорвавшуюся откуда-то собаку, — подшибли метлой, схватили…
Теперь все видно, как начинается Крестный ход.
Мальчик, в бело-глазетовом стихаре, чинно несет светильник, с крестиком, на высоком древке. Первые за ним хоругви — наши, казанские, только что в ход вступили. Сердце мое играет, я знаю их. Я вижу Горкина: зеленый кафтан на нем, в серебряной бахромке. Он стал еще меньше под хоругвей; идет-плетется, качается: трудно ему идти. Голова запрокинута, смотрит в небо, в золотую хоругвь, родную: Светлое Воскресение Христово. Вся она убрана цветами, нашими георгинами и астрами, а над золотым крестиком наверху играет, будто дымок зеленый, воздушная, веерная спаржа. Рядом — Василь-Василич, красный, со взмокшими на лбу лохмами, движется враскорячку, словно пудовики в ногах: он несет тяжелую, старую хоругвь, похожую на огромную звезду с лучами, и в этой звезде, в матовом серебре, будто на снежном блеске светится Рождество Христово. Блеск от него на солнце слепит глаза. Руки Василь-Василича — над запрокинутой головой, на древке; древко всунуто в кожаный чехол; чехол у колен, мешает, надо идти враскачку, — должно быть, трудно. Звезда покачивается, цепляет, звонкает об сквозящую легкую хоругвь Праздника Воскресения Христова. Больше пуда хоругвь-Звезда, и на одном-то древке, а не втрояк. Слезы мне жгут глаза: радостно мне, что это наши, с нашего двора, служат святому делу, могут и жизнь свою положить, как извозчик Семен, который упал в Кремле за ночным Крестным ходом, — сердце оборвалось. Для Господа ничего не жалко. Что-то я постигаю в этот чудесный миг… — есть у людей такое… выше всего на свете… — Святое, Бог!
А вот и трактирщик Митриев, в кафтане тоже. Он несет другую тяжелую хоругвь нашу: в ослепительно-золотых лучах, в лазури, темный, высокий инок — ласковый преподобный Сергий. Он идет над народом, колышется; за его ликом в схиме светится золотое солнце. Вот и еще колышется: воин с копьем, в железе, клонится к Преподобному.
— Иван-Воин… — шепчет мне Кланюшка, — с нашей Якиманки… трудится Артамон Иваныч, москательщик.
Звонкают и цепляются хоругви: от Спаса в Наливках, от Марона-Чудотворца, от Григория Неокессарийского, Успения в Казачьей, Петра и Павла, Флора-Лавра, Иоакима и Анны… — все изукрашены цветами, подсолнухами, рябинкой. Все нас благословляют, плывут над нами. Я вижу взмокшие головы, ясные лысины на солнце, напруженные шеи, взирающие глаза, в натуге, — в мольбе как будто.
Кланюшка шепчет:
— Барышник с Конной, ревнутель очень… А это, Чудотворцев Черниговских несет, рыжая борода… Иван Михайлыч, овсом торгует… а во, проходит, золотая-тяжелая, Михаил-Архангел, в Овчинниках… Никола-Чудотворец, в Пупышах… Никита-Мученик, с Пятницкой… Воскресения в Кадашах… Никола в Толмачах… несет старик, а сила-ач… это паркетчик Бабушкин, два пуда весу… А эта при французах еще была, горела — не сгорела, Преображения на Болвановке… Троицы в Лужниках, Катерины-Мученицы, с Ордынки… Никола Заяицкий, купец его первой гильдии несет, дышит-то как, рот разинул… по фамилии Карнеев, рогожами торгует на Ильинке, новый иконостас иждивением своим поставил… А вот, Климента-Папы-Римского, бархатная хоругвь, та серебром вручную, малиновая-то, с колосиками… А во, гляди-ка, твой Иван-Богослов, замечательного писания, иконописец Пантюхов, знакомый мой… А вот, чернена по серебру, — Крещение Господне… Похвалы Пресвятыя Богородицы… Ильи-Обыденного… Николы в Гусятниках… Пятницы-Параскевы, редкостная хоругвь, с Бориса Годунова… а рядышком, черная-то хоругвь… темное серебро в каменьях… страшная хоругвь эта, каменья с убиенных посняты, дар Малюты Скуратова, церкви Николы на Берсеновке, триста годов ей, много показнил народу безвинного… несет ее… ох, гляди, не под силу… смокнул весь… ах, ревнутель, литейный мастер Овчинников, боец на «стенках»… силищи непомерной… изнемогает-то… а ласковый-то какой… хорошо его знаю… сердешного голубя… вместе с ним плачем на акафистах…
Колышется-плывет сонм золотых хоругвей, благословляет нас всех, сияет Праздниками, Святыми, Угодниками, Мучениками, Преподобными…
Кланюшка дергает меня за руку, губы его трясутся, и слезы в его глазах:
— На конике-то белом… смотри-смотри… — Георгий— Победоносец, что в Яндове… Никола Голутвинский… Косьма-Дамиан… Вознесения на Серпуховке… Воскресение Словущего, в Монетчиках… Гляди, гляди… кремлевские начинают надвигаться!..
Тяжелые, трудные хоругви. Их несут по трое, древки в чехлы уперты, тяжкой раскачкой движутся, — темные стрелы-солнца, — лучи из них: Успение, Благовещение, Архангелы, Спас на Бору, Спас-Золотая Решетка, Темное Око, строгое… Чудовские, Двенадцати Апостолов, Иоанн Предтеча… — древняя старина. Сквозные, легкие — Вознесенского монастыря; и вовсе легкие, истершиеся, золотцем шитые по шелкам, царевен рукоделья, — царей Константина и Елены, церквушки внизу Кремля… Несут бородатые купцы, все в кафтанах, в медалях, исконные-именитые, — чуть плывут… И вот — заминка… клонится темная хоругвь, падает голова под нею… Бледное, серое лицо, русая борода… подхватывают, несут, качается темная рука… воздвигается сникшая хоругвь, разом, подхватывает-вступает дружка… — и опять движутся, колышась.
— Триста двадцать семую насчитал!.. — кто-то кричит с забора, — во сила-то какая… священная!..
Гаечник Прохор это, страшный боец на «стенках». Про какую он силу говорит?..
— А про святую силу… — шепчет мне Кланюшка, от радости задыхается, в захлебе, — Господня Сила, в Ликах священных явленная… заступники наши все, молитвенники небесные!.. Думаешь, что… земное это? Это уж самое небо движется, землею грешной… прославленные все, увенчанные… Господни слуги… подвигами прославлены вовеки… сокровища благих…
Кажется мне: смотрят Они на нас, все — святые и светлые. А мы все грешные, сквернословы, жадные, чревоугодники… — и вспоминаю о пироге. Осматриваюсь и вижу: грязные все какие… сапожники, скорняки… грязные у них руки, а лица добрые, радостно смотрят на хоругви, будто даже с мольбой взирают.
— А это старая старина, еще до Ивана Грозного… присланы в дар от царя Византийского… Кресты Корсунские — запрестольные, из звонкого хрусталя литые… чего видали!.. — радостно шепчет Кланюшка. — А вот и духовенство, несут Спаса Нерукотворенного, образу сему пять сот лет, а то и боле.
Великая Глава Спаса: темная, в серебре, тяжелая икона. На холстине Его несут. Певчие, в кафтанах, — цветных, откидных, подбитых, — и великое духовенство, в серебряных и злаченых ризах: причетники, дьяконы, протопопы в лиловых камилавках, юноши в стихарях, с рипидами: на золоченых древках лики крылатых херувимов, дикирии и трикирии, кадила… — и вот, золотится митра викарного архиерея. Поют «Царю Небесный». Течет и течет народ, вся улица забита. Уже не видно блеска, — одна чернота, народ. А на заборах сидят, глядят. Праздничное ушло, мне грустно…
Архиерея монахи угощают, не прибудет. Дядя Егор кричит; «чего ему ваш обед, там его стерлядями умащают!»
А у нас богомольцев привечают — всем по калачику.
Проходит обед, парадный, шумный. Приезжают отец к концу, уставший, — монахи удержали. После обеда Кашин желает в стуколку постучать, по крупной, по три рубля ремиз, тысячи можно проиграть. Отец карт не любит, они в руках у него не держатся, а так себе, веерком, — гляди, кто хочет. А надо: гости хотят — играй. Играют долго, шумят, стучат кулаками по столу, с горячки, как проиграются. Дядя Егор ругается, Кашин жует страшными желтыми зубами, палит сигарки, весь стол избелил ремизами, даже не лезет выше, хоть и другой приставляй. Отцу везет, целую стопку бумажек выиграл. «Святые помогают!» — чвокает дядя Егор зубом, нехорошо смеется, все у него эти с языка соскакивают, рвет и швыряет карты, требует новые колоды. Накурено в зале досиня, дня не видно. А стопка у отца все растет. Кашин кричит — «валяй подо все ремизы, всмарку!..». Я ничего не понимаю, кружится голова, в тумане. — «Би-та…… как……у архимандрита!.. — гогочет дядя Егор и чвокает, — монахи его устерлядили!..».
От гомона ли и дыма, от жирного ли обеда, от утомленья ли всего дня… — мне тошно, движется все, колышется, сверкает… — я ничего не помню…
…Колышутся и блестят, живые… Праздники и святые лики, кресты, иконы, ризы… плывут на меня по воздуху — свет и звон. И вот, — старенькое лицо, розовая за ним лампадка… за ситцевой занавеской еще непогасший день…
— Чего ж ты, косатик, повалился, а?.. — ласково спрашивает Горкин и трогает мою голову сухой ладонью.
Он уж босой, ночной, в розовенькой рубахе, без пояска. Пришел проведать.
— Уж и хорошо же, милок, как было!.. Прошел Господь со Святыми, Пречистую навестил. А мы Ему потрудились, как умели.
Я спрашиваю, полусонно, — «а поглядел на нас?».
— Понятно, поглядел. Господь все видит… а что?..
— А Пресветлый говорил вчера… Господь стро-го спросит: «как вы живете… поганые?»
— Так Господь не скажет — «поганые»…
— А как?..
– «Кайтеся во гресех ваших… а все-таки вижу, помните Меня… потрудились, на часок отошли от кутерьмы-то вашей»… Милостив Господь, и Пречистая у нас заступа. Наро-ду… половина Москвы было, так под икону и поползли все, повалились, как вот те под косой травка… в слезах, и горя, и радости понесли Пречистой…
— Да… как травка?..
— Уж так-то хорошо, ласково… А папашенька-то нагрел грозителей-то, начисто обыграл, и не бывало никогда… к пяти будто тыщам вышло! Она ему вексельки малые и надодрали, и отдали… денег-то не платить, во как. Еще-то чего сказать?.. А Василь-Василича нашего сам преосвященный кафтаном благословил, теперь уж по спискам хоругиносец будет. А вот как вышло. У Ризположенского проулка было… уж недалгче от Донского, сомлел самый силач купец Доронин… хо-роший человек, ревнутель… большую хоругь нес, а день-то жаркий, ну и… И все-то притомились, не заступают принять хоругь, боятся — не осилят! Я Василича укрепил — «возьмись, Вася!» А он, знаешь, го-рячий у нас… — взялся! И так-то понес, как на крылах, сила-то у него медвежья, дал Господь. Ну, вот ты и повеселел малость… и спи, косатик, ангелы тебе приснятся…
Не помню, снились ли ангелы. Но до сего дня живо во мне нетленное: и колыханье, и блеск, и звон, — Праздники и Святые, в воздухе надо мной, — небо, коснувшееся меня. И по сей день, когда слышу светлую песнь — «…иже везде сый и вся исполняяй…» — слышу в ней тонкий звон столкнувшихся хоругвей, вижу священный блеск.
Покров
Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит не про «дела», а про другое, веселое: а то все рощи да подряды, да сколько еще принанять народу, да «надо вот поехать», да «не мешайся ты тут со своими пустяками». И редко увидишь его дома. А тут, будто на гуляньи или когда ездил на богомолье с нами, — веселый, шутит, хлопает Горкина по спинке и радуется, какая антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад, что отец душеньку отводит, яблочками занялся, и тоже хвалит антоновку: и червь не тронул, и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох, от старости, пожалуй.
— Коль подсаживать, так уж онтоновку, Сергей Иваныч… — поокивает он ласково, — пяток бы еще корней, и яблока покупать не будем для моченья.
Я вспоминаю, что скоро радостное придет, «покров» какой-то, и будем мочить антоновку. «Покров»… — важный какой-то день, когда кончатся все «дела», землю снежком покроет, и — «крышка тогда, шабаш… отмаялся, в деревню гулять поеду», — говорил недавно Василь-Василич.
И все только и говорят: «вот подойдет „покров“ — всему развяза». Я спрашивал Горкина, почему — «развяза». Говорит — «а вот, все дела развяжутся, вот и „покров“». И скорняк говорил намедни: «после „покрова“ работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить посидеть вечерок, почитать с Панкратычем про священное». А еще отец говорил недавно:
— Хочу вот в Зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано… «ледяной дом» запустим с бенгальскими огнями… вот, после «покрова», уж на досуге обдумаем.
Что за «ледяной дом»? И Горкин про дом не знает, — руками так, удивляется: «чудит папашенька… чего уж надумает — не знаю». И я жду с нетерпением, когда же придет «покров». Сколько же дней осталось?..
— А ты вот так считай — и ждать тебе будет веселей, а по дням скушно будет отсчитывать… — объясняет Горкин. — Так вот прикидывай… На той неделе, значит, огурчики посолим, на Иван-Постного, в самый канун посолим… а там и Воздвиженье, Крест Животворящий выносят… — капустку будем рубить, либо чуток попозже… а за ней, тут же на-скорях, и онтоновку мочить, под самый под «покров». До «покрова» три радости те будет. А там и зубы на полку, зима… будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов День подойдет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим в мастерской чугунку сосновыми чурбаками. И всего у нас запасено будет, ухитимся потепле, а над нами Владычица, Покровом своим укроет… под Ее Покровом и живем. И скажет Господу: «Господи, вот и зима пришла, все нароботались, напаслись… благослови их. Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними будет». Вот тебе и — Покров.
Так вот что это — Покров! Это — там, высоко, за звездами: там — Покров, всю землю покрывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: «сама Пречистая на большой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом — Иван-Богословом, и со ангельскими воинствами, и держит над всей землей великий Покров-омофор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся».
А я — увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видал, дадено ему было видеть и нам возвестить, — в старинном то граде было, — чтобы не устрашались люди, а жили-радовались.
— Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не будет ничего страшно: роботай-знай — и живи, не бойся, заступа у нас великая.
Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице-Казанской, — темная у нас икона в детской. Молюсь и щурюсь… Вижу лучики — лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, высоко, за звездами, — сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно.
Если бы увидать — там, высоко, за звездами?!.
Вот и канун Ивана-Постного, — «усекновение Главы Предтечи и Крестителя Господня», — печальный день.
Завтра пост строгий: будем вкушать только грибной пирог, и грибной суп с подрумяненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой; а сладкого не будет, и круглого ничего не будет, «из уважения»: ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков: напоминают «Главку». Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одно к одному уж пусть. Но огурчики длинные?.. Бывают и вовсе круглые, «кругляки», а лучше совсем не надо. Потому, пожалуй, в канун огурцы и солят.
На нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах, для заливки посола, чтобы отстоялась и простыла, режут укроп и хрен, остропахучий эстрагоник; готовят, для отборного засола, черносмородинный и дубовый лист, для крепкости и духа, — это веселая работа.
Выкатила кадушки скорнячиха; бараночник Муравлятников готовит целых четыре кадки; сапожник Сараев тоже большую кадку парит. А у нас — дым столбом, живое столпотворение. Как же можно: огурчика на целый год надо запасти, рабочего-то народу сколько! А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя: с огурчиком соленым и хлебца в охотку съешь, и поправиться когда нужно, опохмелиться, — первое средство для оттяжки. Кадки у нас высокие: Василь-Василич на цыпочках поднимается — заглянуть; только Антон Кудрявый заглядывает прямо. Кадки дымят, как трубы: в них наливают кипяток, бросают докрасна раскаленные вязки чугунных плашек, — и поднимается страшное шипенье, высокие клубы пара, как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесени чтобы не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики — дело строгое, требует чистоты.
Павел Ермолаич, огородник, пригнал огурца на семи возах: не огурец, а хрящ. Пробуют всем двором: сладкие, и хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпают: хряп и щелк. Ешь, не жалко. Откусят — и запустят выше дома. Горкин распоряжается:
— На чистые рогожи отбирай, робята!.. Бабочки, отмывай покрепше!..
Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная Маша, Василь-Василич, особенно веселый, — радостной работой заняты. Плотники одобряют крупные, желтяки. Такие и Горкин уважает, и Василь-Василич, и старичок-лавочник Юрцов: пеняют даже Пал-Ермоланчу, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с пупырками. Нет, говорят, как можно, настоящий огурчик — с семечками который, зрелый: куда сытней, хрипнешь — будто каша!
На розовых рогожах зеленые кучи огурца, пахнет зеленой свежестью. В долгом корыте моют. Корыто — не корыто, а долгая будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капусту. Ондрюшка, искусник, выбирает крупные желтяки, вываливает стамезкой «мясо», манит меня идти за ним на погребицу, где темней, ставит в пустые огурцы огарки… — и что за чудесные фонарики! желто-зеленые, в разводах, — живые, сочные. Берет из песка свекольные бураки, выдалбливает стамезкой, зажигает огарочки… — и что за невиданный никогда огонь! малиново-лиловый, живой, густо-густой и… бархатный!.. — вижу живым доселе. Доселе вижу, из дали лет, кирпичные своды, в инее, черные крынки с молоком, меловые кресты, Горкиным намеленные повсюду, — в неизъяснимом свете живых огоньков, малиновых… слышу прелестный запах сырости, талого льда в твориле, крепкого хрена и укропа, огуречной, томящей свежести… — и слышу и вижу быль, такую покойную, родную, смоленную душою русской, хранимую святым Покровом.
А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются. Ловкие бабьи руки отжимают, кидают в плоские круглые совки… — и валятся бойкие игрунки зеленые гулким и дробным стуком в жерла промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится.
— Соль, робята!.. чисты ли руки-те?.. Бережно разводи в ведерке, отвешено у меня по фунтикам… не перекладь!..лей с Господом!..
Будто священное возглашает, в тишине. И что-то шепчет… какую же молитву? после, доверил мне, помню ее доселе, молитву эту — «над солию»: «сам благослови и соль сию и приложи ю в жертву радования…»
Молитву над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой: это же — «хлеб насущный»: «благослови их, Господи, лютую зиму перебыть… Покров Мой над ними будет». Благословение и Покров — над всем.
Кадки наполнены, укрыты; опущены в погреба, на лед. Горкин хрустит огурчиком. Ласково говорит:
— Дал бы Господь отведать. К Филиповкам доспеют, попостимся с тобой огурчиком, а там уж и Рождество Христово, рукой подать.
Наелись досыта огурцов, икают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом, хреном. Смоленные огурцы спят в кадках — тихая «жертва радования».
А вот и другая радость: капусту рубим!
После Воздвиженья принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит — «огурчики дело важное, для скусу, а без капустки не проживешь, самая заправка наша, робочая». Опять на дворе дымятся кадки, столбами пар. Новенькие щиты, для гнета, блестят на солнце смолистой елкой. Сечки отчищены до блеска. Народу — хоть отгоняй. Пришли все плотники: какая теперь работа, Покров на носу — домой! Пришли землекопы и конопатчики, штукатуры и маляры, каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, серчает на Дениса — «а ты зачем? на портомойке кто за тебя остался… Никола-Угодник-батюшка?!.» Денис, молодой солдат, с сережкой в ухе, — все говорят — красавец! — всегда зубастый, за словом в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый: в глаза не глядит, совсем овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется: «капустки Денису зажелалось… пусть пожует, малость оттянет, может!» Все смеются, а Денис и не огрызнется, — как бывало. Мне его что-то жалко, я про него все знаю, наслушался. Денис выпивает с горя, что Маша выходит за конторщика… а потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница… Что-то давно выходит, а все не выйдет, а в водополье — при нас это было с Горкиным — принесла Денису пирог с морковью, в украдочку, сунула без него и убежала: «это за пескарей ему». Ничего не понять, чего такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис.
— Я, Михал Панкратыч, буду за троих, дозвольте… а на портомойке Василь-Василич Ондрейку оставил без меня, дозволил… уж и вы дозвольте.
Совсем — овечка. Горкин трясет бородкой: ладно, оставайся, руби капусту. И Горкину нравится Денис: золотые руки, на все гожий, только вот пьяница. А потому пьяница, что..
— Их не поймешь… как журавль с цаплей сватаются, вприглядку!
Двадцать возов капусты, весь двор завален: бело-зеленая гора, рубить-не-перерубить. Василь-Василич заправляет одним корытом, другим — я с Горкиным. Корыта из толстых досок, огромные, десять сечек с каждого боку рубят, весело слушать туканье, — как пляшут. В том корыте серую капусту рубят, а в нашем — белую. Туда отбирают кочни позеленей, сдают зеленые листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую, «молочную». Называют — «хозяйское корыто». Я шепчу Горкину — «а им почему зеленую?». Он ухмыляется на меня:
— Зна‑ю, чего ты думаешь… Обиды тут нет, косатик. Ваша послаще будет, а мы покрепчей любим, с горчинкой, куда вкусней… и как заквасится, у ней и дух пронзей… самая знаменитая капуста наша, серячок-то.
Все надо по порядку. Сперва обсекают «сочень», валят в корыто кочни, а самое «сердечко» в корыто не бросают, в артель идет. Когда ссекают — будто сочно распарывают что-то, совсем живое. Как наполнится полкорыта, Горкин крестится и велит:
— С Богом… зачинай, робятки!
Начинается сочное шипенье, будто по снегу рубят, — так жвакает. А потом — туп-туп-туп… тупы-туки… тупы-туки… — двадцать да двадцать сечек! Молча: нельзя запеть. И Горкин не запретил бы, пригодную какую песню, — любит работу с песнями, — да только нельзя запеть, «духу не выдержать». Денис — сильный, и он не может. Глупая Маша шутит: «спой ты хоть про капусту, в кармане, мол, пусто!..» А Денис ей: «а ты косила?» — «Ну, косила, ложкой в рот носила!» Совсем непонятный разговор. — «А что тебе, косила, тебя не спросила!» — «А вот то, знала бы: что косить — что капусту рубить, — не спеть». А она все свое: «пьют только под капусту!» Горкин даже остановил: «чисто ты червь капустный, тебя не оберешь».
— Годи, робята…
Горкин черпает из корыта, трясет в горсти: мелко, ровно, капустинка-то к капустнике. Опять начинают сечку, хряпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кончики от хряпки: надавишь зубом — так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хряпают. У молодых, у Маши, у Дениса — зубы белые-белые, как кочерыжки, и будто прикусывают сахар, будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет. Швыряются кочерыжками — объелись. Веселая — капуста эта! Ссыпают в кадки, перестилают солью. Горкин молитву шепчет… — про «жертву радования»?..
В канун Покрова, после обеда, — самая большая радость, третья: мочат антоновку.
Погода разгулялась, большое солнце. В столовую, на паркет, молодцы-плотники, в родовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой, и сразу слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк — и дышишь: яблочными садами пахнет, деревней, волей. Не дождешься, когда распорют. Порется туго, глухо, — и вот, пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится… — и катится по паркету яблоко, большое, золотое, цвета подсолнечного масла… пахнет как будто маслом, будто и апельсином пахнет, и маслится. Тычешься головой в солому, запустишь руки, и возятся под руками яблоки. И все запускают руки, все хотят выбрать крупное самое — «царя». Вся комната в соломе; под стульями, под диваном, под буфетом, — везде закатились яблоки. И кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комната совсем другая, яблочная. Вытираем каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли, родимые ямки-завитушки заливаем топленым воском. Тут же стоят кадушки, свежие-белые, из липки. Овсяная солома. пареная, душистая, укладывается на дно кадушки, на нее — чтобы бочками не касались — кладутся золотистые антоновки, и опять, по рядку, солома, и опять яблоки… — и заливается теплой водой на солоде.
На «яблоках» все домашние: даже и отец радуется с нами, и матушка, на креслах… — ей запрещают нагибаться: она ходит тихо и тяжело, «вынашивает», и ее все остерегают, даже Маша: «вам, барыня, нельзя, я вам достану яблочко». Кругом кресел, все мы ее обсели: и Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васса, которая живет в темненькой и не отличит яблока от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоки и вскрикивает, как будто испугалась: «да барыня… ка-кое!..» Сонечка дает ей большое яблоко и говорит: «А ну, откуси, Маша… очень ты хорошо, послушаем». Маша на яблоко смеется, закусывает крепко-звонко белыми-белыми зубами, сочными, как миндаль, и так это хорошо выходит — хру-хру… хру-хру, чмокается во рту, и видно, как сок по губам сочится. И все начинаем хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро-умильно щурит. Так мне нравится на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоки, на солому, на этот «сад», вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то соловей, — может быть, хочет яблочка. И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона Владычицы Казанской едва различимым Ликом.
Плотники поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно. Убирают солому, подметают. Многие дни будут ходить по дому яблочные духи. И с какой же радостью я найду закатившееся под шкаф, ставшее духовитее и слаже антоновское «счастье»!..
Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой, — во всю землю Ее Покров. И теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами Владычица, — там, высоко, за звездами.
Я просыпаюсь рано, — какой-то шум?.. Будто загромыхали ванной? Маша просовывает в дверь голову, неубранную, в косах. Подбегает к моей постельке, тычется головой в подушку, кусает меня за щечку и говорит, в улыбке:
— Ду-сик… глазастенький, разунь глазки… маменька Катюшу подарила, нонче ночью! Вчерась яблочко кушала, а вот и Катюша-нам!..
Щекочет у моего носа кончиком косы, и весело так смеется, и все называет — «ду-сик». Отмахивает розовую занавеску, — и вот солнце! Праздничное, Покров.
В столовой накрыто парадно к чаю. Отец — парадный, надушенный, разламывает горячий калач над чаем, намазывает икрой, весело смотрит на меня.
— Маленькая Катюша… — говорит он особенно, прищурясь, и показывает головой на спальню. — Теперь, мальчонка, у нас пяток! Рад сестренке?..
Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой чудесно, и калачом, и самоварным паром, и бульканьем, и любимыми, милыми духами, — флердоранжем.
— Вот тебе от Катюши нашей… розовая обновочка!.. И только теперь я вижу — новые розовые чашки, розовый чайник с золотым носиком, розовую полоскательную чашку, розовую, в цветочках, сахарницу… — и все в цветочках, в бело-зеленых флердоранжах! Все такое чудеснорозово, «катюшино»… совсем другое, что было раньше. Чашеки не простые, — совсем другие: уже и уже кверху, «чтобы не расплескалось», — весело говорит папашенька: «так и зови — „катюшки“».
И вдруг, слышу, за дверью спальни, — такое незнакомое, смешное… — «уа‑а… у‑а-а……».
— Новый-то соловей… а? Не покупной соловей, а свой! — весело говорит отец. — А самое главное… мамашенька здорова. Будешь молиться — Катюшеньку прибавляй, сестренку.
И намазывает мне икрой калачик.
Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую теперь, нашу, песенку — «у‑а-а… у‑а-а‑а…». Какой у нас свет, какая у нас радость!.. Под самый Покров Владычицы.
Разъехались плотники по домам, в деревню, зиму перебывать. И у них запасено на зиму. Ухитятся потепле, избы закутают соломой, — и над ними Покров Ее, и теперь ничего не страшно. И Василь-Василич отмаялся, укатил в деревню, на недельку: нельзя, Покров. Горя с народом принял: каждого тоже рассчитать, все гривеннички помнить, что забрали за полгода работы, никого чтобы не обидеть, не утеснить: ни отец этого не любит, ни Горкин. Намаялся-таки, сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил свои вихры, постреливал косым глазом и бранился: «а, такие… спутали вы меня!..» Народу до двухсот душ, а у него только каракульки на книжке, кружочки, елочки, хвостики… — как уж разбирается — не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам тот не разберет! Горкин морщится, Василь-Василич все — тот да тот. Ну, теперь всем развяза: пришел Покров.
И земле ухититься тоже надо: мороз ударит. Благослови ее. Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть. Покров и над нею будет.
А у Горкина новая шуба будет: «земной покров». Отец подарил ему старую свою, хорьковую, а себе заведет новинку, «катюшкину». Скорняк уже перебрал, подпустил парочку хоря, и теперь заправская будет шуба, — прямо купец с Рядов. И мне тоже «земной покров»: перетряхнули мой армячок бараний, подправили зайчиком в рукава, — катай с горки с утра до вечера, морозу не добраться. И — очень порадовался Горкин: с канителью развяза наступила. Дениса не узнаешь: таким-то щеголем ходит, в запашной шубе, совсем молодчик, — вчера показывал. Сватанье-огрызанье кончилось: сосватались, слава Богу, с Машей, свадьба на Красной Горке, нельзя раньше, — приданое готовить надо, и по дому много дела, теперь Катюшка, а мамашенька привыкла к Маше, просила побыть до Пасхи.
— Дениса старшим приказчиком берет папашенька, Василичу правая рука. Вот и Маша покроется… как хорошо-то, косатик, а?..
Да, хорошо… Покров. Там, высоко, за звездами. Видно в ночном окне, как мерцают они сияньем, за голыми прутьями тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут, во все века. И ничего не страшно.
Я смотрю на лампадку, за лампадку… в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть, как кто-то видел, в старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву, новую. Покрову… длинную, трудную молитву. Нет, не помню… только короткое словечко помню — «О, великое заступление печальным… еси…».
Именины
Предверие
Осень — самая у нас именинная пора: на Ивана Богослова — мои, на мучеников Сергия и Вакха, 7 октября, — отца; через два дня, мч. Евлампии, матушка именинница, на Михайлов День Горкин пирует именины, а зиму Василь-Василич зачинает, — Васильев День, — и всякие уж пойдут неважные.
После Покрова самая осень наступает: дожди студеные, гололед. На дворе грязь чуть не по колено, и ничего с ней нельзя поделать, спокон веку все месится. Пробовали свозить, а ее все не убывает: за день сколько подвод пройдет, каждая, плохо-плохо, а с полпудика натащит, да возчики на сапогах наносят, ничего с ней нельзя поделать. Отец поглядит-поглядит — и махнет рукой. И Горкин резон приводит: «осень без грязи не бывает… зато душе веселей, как снежком покроет». А замостить — грохоту не оберешься, и двор-то не тот уж будет, и с лужей не сообразишься, камня она не принимает, в себя сосет. Дедушка покойный рассердился как-то на грязь, — кожаную калошу увязил, насилу ее нащупали, — никому не сказал, пригнал камню, и мостовщики пришли, — только-только, Господи благослови, начали выгребать, а прабабушка Устинья от обедни как раз и приезжает: увидала камень да мужиков с лопатами — с ломами — «да что вы, говорит, двор-то уродуете, земельку калечите… побойтесь Бога!» — и прогнала. А дедушка маменьку уважал и покорился. И в самый-то день Ангела ее, как раз после Покрова, корежить стали. А двор наш больше ста лет стоял, еще до француза, и крапивка, и лопушки к заборам, и желтики веселили глаз, а тут — под камень!
За неделю до муч. Сергия-Вакха матушка велит отобрать десяток гусей, которые на Москва-реке пасутся, сторожит их старик гусиный, на иждивении. Раньше, еще когда жулики не водились, гуси гуляли без дозору, да случилось — пропали и пропали, за сотню штук. Пошли проведать по осени, — ни крыла. Рыбак сказывал: «может, дикие пролетали, ночное дело… ваши и взгомошились с ними — прощай, Москва!». С той поры крылья им стали подрезать.
На именины уж всегда к обеду гусь с яблоками, с красной шинкованной капустой и соленьем, так уж исстари повелось. Именины парадные, кондитер Фирсанов готовит ужин, гусь ему что-то неприятен: советует индеек, обложить рябчиками-гарниром, и соус из тертых рябчиков, всегда так у графа Шереметьева. Жарят гусей и на людской стол: пришлого всякого народу будет. И еще — самое-то главное! — за ужином будет «удивление», у Абрикосова отец закажет, гостей дивить. К этому все привыкли, знают, что будет «удивление», а какое — не угадать. Отца называют фантазером: уж всегда что-нибудь надумает.
Сидим в мастерской, надумываем, чего поднести хозяину. По случаю именин, Василь-Василич уж воротился из деревни, Покров справил. Сидит с нами. Тут и другой Василь-Василич, скорняк, который все священные книги прочитал, и у него хорошие мысли в голове, и Домна Панферовна, — из бань прислали пообдумать, обстоятельная она, умный совет подаст. Горкин и Ондрейку кликнул, который по художеству умеет, святого голубка-то на сень приделал из лучиков, когда Царицу Небесную принимали, святили на лето двор. Ну, и меня позвал, только велел таиться, ни слова никому, папашенька чтобы не узнал до времени. Скорняк икону советовал, а икону уж подносили. Домна Панферовна про Четьи-Минеи помянула, а Четьи-Минеи от прабабушки остались, Василь-Василич присоветовал такую флягу-бутылочку из серебра, — часто, мол, хозяин по делам верхом отлучается в леса-рощи, — для дорожки-то хорошо. Горкин насмех его — «кто-что, а ты все свое… „на дорожку“»! Да отец и в рот не берет по этой части. Домна Панферовна думала-думала да и бухни: «просфору серебряную, у Хлебникова видала, архиерею заказана». Архиерею — другое дело. Горкин лоб потирал, а не мог ничего придумать. И я не мог. Придумал — золотое бы портмоне, а сказать побоялся, стыдно. Ондрейка тут всех и подивил:
— А я, говорит, знаю, чего надо… Вся улица подивится, как понесем, все хозяева позавиствуют, какая слава!
Надо, говорит, огромадный крендель заказать, чтобы невидано никогда такого, и понесем все на головах, на щите, парадно. Угольком на белой стенке и выписал огромадный крендель, и с миндалями. Все и возвеселились, как хорошо придумал-то. Василь-Василич аршинчиком прикинул: под два пуда, пожалуй, говорит, будет. А он горячий, весь так и возгорелся: сам поедет к Филиппову, на Пятницкую, старик-то Филиппов всегда ходит в наши бани, уважительно его парят банщики, не откажет, для славы сделает… — хоть и печь, может, разобрать придется, а то и не влезет крендель, таких никогда еще не выпекали. Горкин так и решил, чтобы крендель, будто хлеб-соль подносим. И чтобы ни словечка никому: вот папашеньке по душе-то будет, диковинки он любит, и гости подивятся, какое уважение ему, и слава такая на виду, всем в пример.
Так и порешили — крендель. Только Домна Панферовна что-то недовольна стала, не по ее все вышло. Ну, она все-таки женщина почтенная, богомольная, Горкин ее совета попросил, может, придумает чего для кренделя. Обошлась она, придумала: сахаром полить — написать на кренделе: «на День Ангела — хозяину благому», и еще имя-отчество и фамилию прописать. А это скорняк придумал — «благому»-то, священным словом украсить крендель, для торжества: священное торжество, ангельское. И все веселые стали, как хорошо придумали. Никогда не видано — по улице понесут, в дар! Все лавочники и хозяева поглядят, как людей-то хороших уважают. И еще обдумали — на чем нести: сделать такой щит белый, липовый, с резьбой, будто карнизик кругом его, а Горкин сам выложит весь щит филенкой тонкой, вощеной, под тонкий самый паркет, — самое тонкое мастерство, два дня работы ему будет. А нести тот щит на непокрытых головах, шестерым молодцам из бань, все ровникам, а в переднюю пару Василь-Василича поставить с правой руки, а за старшего, на переду, Горкин заступит, как голова всего дела, а росточку он небольшого, так ему под щит тот подпорочку-держалку, на мысок щита чтобы укрепить, — поддерживать будет за подставочку. И все в новых поддевках чтобы, а бабы-банщицы ленты чтобы к щиту подвесили, это уж женский глаз тут необходим, — Домна Панферовна присоветовала, потому что тут радостное дело, для глаза и приятно.
Василь-Василич тут же и покатил к Филиппову, сговориться. А насчет печника, чтобы не сумлевался Филиппов, пришлем своего, первейшего, и все расходы, в случае печь разбирать придется, наши. Понятно, не откажет, в наши бани, в «тридцатку» всегда ездит старик Филиппов, парят его приятно и с уважением, — все, мол, кланяются вашей милости, помогите такому делу. А слава-то ему какая! Чей такой крендель? — скажут. Известно, чей… филипповский — знаменитый. По всей Москве банные гости разнесут.
Скоро воротился, веселый, руки потирает, — готово дело. Старик, говорит, за выдумку похвалил, тут же и занялся: главного сладкого выпекалу вызвал, по кренделям, печь смотрели, — как раз пролезет. Но только дубовой стружки велел доставить и воз лучины березовой, сухой-рассухой, как порох, для подрумянки чтобы, как пропекут. Дело это, кто понимает, трудное: государю раз крендель выпекали, чуть поменьше только, — «поставщика-то Двора Его Величества» охватил Филиппов! — так три раза все портили, пока не вышел. Даже пошутил старик: «надо, чтобы был кре-ндель, а не сбре-ндель!» А сладкий выпекала такой у него, что и по всему свету не найти. Только вот запивает, да за ним теперь приглядят. А уж после, как докажет себя, Василь-Василич ублаготворит и сам с ним ублаготворится, — Горкин так посмеялся. И Василь-Василич крепкий зарок дал: до кренделя — в рот ни капли.
Горкин с утра куда-то подевался. Говорят, на дрожках с Ондрейкой в Мазилово укатили. А мне и не сказался. А я почуял; уж не соловьиную ли клетку покупать у мужиков, клетки там делают, в Мазилове. А он надумывал соловья отцу подарить, а меня и не прихватил птиц смотреть. А все обещался мне: там всякие птицы собраны, ловят там птиц мазиловцы. Поплакал я в мастерской, и погода такая, гулять нельзя, дождь с крупой. Приехал он, я с ним ни слова не говорю. Смотрю — он клетку привез, с кумполом, в шишечках костяных-резных. Он увидел, что надулся я на него, стал прощенья у меня просить: куда ж в непогодь такую, два-раз с дрожек, падали они с Ондрейкой, да и волки кругом, медведи… — насилу отбились от волков. А мне еще горше от того, — и я бы от волков отбился, а теперь когда-то я их увижу! Ну, он утешил: сейчас поедем за соловьем к Солодовкииу, мазиловские совсем плохи. И поехали на Зацепу с ним.
А уж совсем стемнело, спать собирались соловьи. А Солодовкин заставил петь: органчики заиграли, такие машинки на соловьев, «дразнилки». Заслушались мы прямо! Выбрал нам соловья:
— Не соловей, а… «Хвалите имя Господне!» — так и сказал нам, трогательно до слез.
Ради Горкина только уступил, а то такому соловыо и цены нет. Не больше чтобы черного таракана на неделю скармливать, а то зажиреть может.
Повезли мы соловья, веселые. Горкин и говорит:
— Вот рад-то будет папашенька! Ну, и святой любитель Солодовка, каменный дом прожил на соловьях, по всей Расеи гоняется за ними, чуть где прознает.
В мастерской только и разговору, что про крендель. Василь-Василич от Филиппова не выходит, мастеров потчует, чтобы расстарались. Уж присылали мальчишку с Пятницкой при записке, — «просит, мол, хозяин придержать вашего приказчика, всех мастеров смутил, товар портят, а главного выпекалу сладкого по трактирам замотал…». Горкин свои меры принял, а Василь-Василич одно и одно: «за кренделем наблюдаю!.. и такой будет крендель, — всем кренделям крендель!»
А у самого косой глаз страшней страшного, вихры торчками, а язык совсем закренделился, слова портит. Прибежит, ударит в грудь кулаком — и пойдет:
— Михал Панкратыч… слава тебе, премудрому! додержусь, покелича кренделя не справим, в хозяйские руки не сдадим… ни маковой росинки, ни-ни!..
Кровь такая горячая, — всегда душу свою готов на хорошее дело положить. Ну, чисто робенок малый… — Горкин говорит, — только слабость за ним такая.
Накануне именин пришел хорошими ногами, и косой глаз спокойный. Покрестился на каморочку, где у Горкина лампадки светили, и говорит шепотком, как на духу:
— Зачинают, Панкратыч… Господи баслови. Взогнали те-сто!.. — пузырится, квашня больше ушата, только бы без закальцу вышло!..
И опять покрестился.
А уж и поздравители стали притекать, все беднота-простота, какие у нас работали, а теперь «месячное» им идет. Это отец им дает, только ни одна душа не знает, мы только с Горкиным. Это Христос так велел, чтобы правая рука не знала, чего дает. Человек двадцать уж набралось, слушают Клавнюшу Квасникова, моего четыре…четвероюродного братца, который божественным делом занимается: всех-то благочинных знает-навещивает, протодиаконов и даже архиереев, и все хоругви, а уж о мощах и говорить нечего. Рассказывает, что каждый день у него праздник, на каждый день празднуют где-нибудь в приходе, и все именины знает. Его у нас так «именинником» и кличут, и еще «крестным ходом» дядя Егор прозвал. Как птица небесная, и везде ему корм хороший, на все именины попадает. У митрополита Иоанникия протиснулся на кухню, повару просфору поднес, вчера, на именины, — Святителей вчера праздновали в Кремле, — Петра, Алексея, Ионы и Филиппа, а повар, как раз, — Филипп. Так ему наложили в сумку осетрины заливной, и миндального киселика в коробке, и пирогов всяких, и лещика жареного с грибами, с кашкой, с налимьим плесом. А сам-то он не вкушает, а все по бедным-убогим носит, и так ежедень. И книжечку-тетрадку показал, — все у него там приходы вписаны, кого именины будут. А тут сидела Полугариха из бань, которая в Ирусалиме была. И говорит:
— Ты и худящий такой с того, что по аменинам ходишь, и нос, как у детела, во все горшки заглядываешь на кухнях!
А Клавнюша смиренный, только и сказал:
— Нос у меня такой, что я прост, все меня за нос водят.
Значит, всем покоряется. И у него деньги выманивают, что благочинные дают ему. И что же еще сказал!..
— Остерегайтесь барина, который в красном картузе, к вам заходит… просфорок от него не принимайте!
И что же оказывается!.. — Горкин даже перепугался и стал креститься. А это про барина Энтальцева. Зашел барин поздравить о. Копьева… именинник он был, благочинный нашего «сорока», от Спаса в Наливках… и поднес ему просфору за гривенник, — от Трифона-мученика, сказал. Клавнюшка-то не сказал о. благочинному, а он барина застал у заборчика в переулке: ножичком перочинным… просфорку… сам вынима-ет!.. «Не сказывай никому», — барин-то попросил, — «к обедне я опоздал, просфору только у просвирни захватил, а без вынутия-то неловко как-то… ну, я за него сам и помолился, и частицу вынул с молитвой, это все равно, только бы вера была». А благочинный и не заметил, чисто очень вынута частица, и дырочек наколол в головке, будто «богородичная» вышла.
И стали мы с Клавнюшей считать, сколько завтра нам кондитерских пирогов и куличей нанесут. В прошедшем году было шестьдесят семь пирогов и двадцать три кулича — вписано у него в тетрадку. Ему тогда четыре пирога дали — бедным кусками раздавать. Завтра с утра понесут, от родных, знакомых, подрядчиков, поставщиков, арендаторов, прихожан, — отец староста церковный у Казанской, — из уважения ему и посылают. А всяких просвирок и не сосчитать. В передней плотники поставили полки — пироги ставить, для показу. И чуланы очистили для сливочных и шоколадных пирогов-тортов, самых дорогих, от Эйнема, Сиу и Абрикосова, — чтобы похолодней держать. Всем будем раздавать, а то некуда и девать. Ну, миндальные-марципанные побережем, постные они, не прокисают. Антипушка целый пирог получит. А Горкин больше куличики уважает, ему отец всегда самый хороший кулич дает, весь миндалем засыпанный, — в сухари.
Приехал Фирсанов, с поварами и посудой, поварской дух привез, Гараньку из Митриева трактира вызвал — делать редкостный соус из тертых рябчиков, как у графа Шереметьева. И дерзкий он, и с поварами дерется, и рябиновки две бутылки требует, да другого такого не найти. Говорят, забрал припасы с рябиновкой, на погребице орудует, чтобы секрет его не подглядели. На кухне дым коромыслом, навезли повара всякого духовитого припасу, невиданного осетра на заливное, — осетровый хвостище с полка по мостовой трепался — всю ночь будут орудовать-стучать ножами, Марьюшку выжили из кухни. Она и свои иконки унесла, а то халдеи эти Святых табачищем своим задушат, после них святить надо.
Пора спать идти, да сейчас Василь-Василич от Филиппова прибежит, — что-то про крендель скажет? Уж и бежит, веселый, руками машет.
— Выпекли знатно, Михал Панкратыч!.. до утра остывать будет. При мне из печи вынали, сам Филиппов остерегал-следил. Ну, и крендель… Ну, ды-шит, чисто живой!.. А пекли-то… на соломке его пекли да заборчиком обставляли, чтобы, не расплывался. Следили за соломкой строго… время не упустить бы, как в печь становить… не горит соломка — становь. Три часа пекли, выпекала дрожью дрожал, и не подходи лучше, убьет! Как вынать, всунул он в него, в крендель-то, во какую спицу… — ни крошинки-мазинки на спице нет, в самый-то раз. Ну, уж и красота румяная!.. — «Никогда, говорит, так не задавался, это уж ваше счастье». Велел завтра поутру забирать, раньше не выпустит.
Отец и не ожидает, какое ему торжество-празднование завтра будет. Горкин щит две ночи мастерил, в украдку. Ондрейка тонкую резьбу вывел, как кружево. Увезли щит-поднос в бани, когда стемнело. Завтра, раным-рано поутру, после ранней обедни, все выборные пойдут к Филиппову. Погода бы только задалась, кренделя не попортила… — ну, в случае дождя, прикроем. Понесут на головах, по Пятницкой, по Ордынке, по Житной, а на Калужском рынке завернут к Казанской, батюшка выйдет — благословит молитвой и покропит. Все лавочники выбегут, — чего такое несут, кому? А вот, скажут, — «хозяину благому», на именины крендель! И позавиствуют. А вот заслужи, скажут, как наш хозяин, и тебе, может, поднесут… это от души дар такой придуман, никого силой не заставишь на такое.
Только бы дождя не было! А то сахарные слова размокнут, и не выйдет «хозяину благому», а размазня. Горкин погоду знает, говорит, — может, и дождичка надует, с заката ветер. На такой случай, говорит, Ондрейка на липовой досточке буковки вырезал, подвел замазкой и сусальным золотцем проложил: «съедят крендель, а досточка те и сохранится».
Три ящика горшановского пива-меду для народа привезли, а для гостей много толстых бутылок фруктовой воды, в соломенных колпачках, ланинской — знаменитой, моей любимой, и Горкин любит, особенно черносмородинную и грушевую. А для протодьякона Примагентова бутылочки-коротышки «редлиховской» — содовой и зельтерской, освежаться. Будет и за обедом, и за парадным ужином многолетие возглашать, горло-то нужно чистое. Очень боятся, как бы не перепутал; у кого-то, сказывали, забыли ему «редлиховской», для прочистки, так у него и свернулось с многолетия на… — «во блаженном успении…» — такая-то неприятность была. Слабость у него еще: в «трынку» любит хлестаться с богатыми гостями, на большие тысячи рискует даже, — ему и готовят освежение. Завтра такое будет… — и певчие пропоют-прославят, и хожалые музыканты на трубах придут трубить, только бы шубы не пропали. А то в прошедшем году пришли какие-то потрубить-поздравить, да две енотовых шубы и «поздравили». И еще будет — «удивление», под конец ужина, Горкин мне пошептал. Все гости подивятся: «сладкий обман для всех». Что за сладкий обман?..
— А еще бу-дет… вот уж бу-дет!.. Такое, голубок, будет, будто весна пришла.
— А это почему… будто весна пришла?
— А вот, потерпи… узнаешь завтра.
Так и не сказал. Но что же это такое — «будто весна пришла»? что же это такое… почему Ондрейка в зале, где всегда накрывают парадный ужин, зимнюю раму выставил, а совсем недавно зимние рамы вставили и замазали наглухо замазкой? Спрашиваю его, а он — «Михайла Панкратыч так приказали, для воздуху». Ну, я, правду сказать, подумал, что это для разных барынь, которые табачного курева не любят, у них голова разбаливается, и тошно им. Дядя Егор кручонки курит самые злющие, «сапшалу» какую-то, а Кашин, крестный, — вонючие сигарки, как Фирсанов. А когда они в «трынку» продуются, так хоть святых выноси, чад зеленый. А они сердятся на барынь, кричат: «не от дыму это, а облопаются на именинах будто сроду не видали пирогов-индюшек, с того и тошнит их, а то и „от причины“»! Скандал прямо, барыни на них только веерками машут.
После только я понял, почему это выставили — «для воздуху». Такое было… — на всю Москву было разговору! — самое лучшее это было, если кренделя не считать, и еще — «удивления», такое было… никто и не ожидал, что будет такая негаданность-нежданность, до слез веселых. Помню, я так и замер, от светлого, радостного во мне, — такого… будто весна пришла! И такая тогда тишина настала, так все и затаилось, будто в церкви… — муху бы слышно было, как пролетит. Да мухи-то уж все кончились, осень глухая стала.
Празднование
Никак не могу заснуть, про именины все думаю: про крендель, про «удивление», от Абрикосова, и еще что-то особенное будет, «будто весна пришла». В прошедшем году после сладкого крема вдруг подали котлеты с зеленым горошком и молодым картофелем-подрумянкой, все так ахнули, даже будто обидно стало: да что это такое, деревенские они, что ли, — после сладкого, да отбивные котлеты! А тут-то и вышло «удивление»: из сладкого марципана сделано, а зеленый горошек совсем живой, — великое мастерство, от Абрикосова. А завтра какое будет, теперь-то уж не обманешь марципаном! Я Христом-Богом Горкина умолял сказать, — не сказал. Я ему погрозился даже, — не буду за него молиться, что-нибудь и случится с ним, детская-то молитва доходчива, всем известно. И то не сказал, запечалился только:
— Твоя воля, не молись… может, ногу себе сломаю, тебе на радость.
Оба мы поплакали, а не сказал: папашенька ему заказал сказывать. И еще я все стишки про себя наговаривал, Сонечка заставила меня выучить, сказать при гостях папашеньке, как в подарок. Длинные стишки, про ласточек и про осень, на золотистой бумажке из хрестоматии Паульсона я списал. Только бы не сбиться, не запнуться завтра, все у меня выходит — «пастурций в нем огненный куст», вместо «настурций», — цветы такие, осенние. Ах, какие стишки, осень печальная будто на душе, Сонечка так сказала. И у меня слезы даже набегают, когда досказываю: «И вот, их гнездо одиноко, — они уж в иной стороне… — Далеко, далеко, далеко…» И повара еще подо мной, на кухне, кастрюлями гремят, ножами стучат… и таким вкусным пахнет, пирожками с ливером, или заливным душистым… — живот даже заболел от голода, супцу я только куриного поел за ужином. А Клавнюша спит-храпит на горячей лежанке: а подвиг голодный соблюдает, другой год не ужинает, чтобы нечистый дух через рот не вошел в него, — в ужин больше они одолевают, на сон грядущий, — странник один поведал. И я ужинать перестать хотел, а Горкин наказал мне рот крестить, и тогда дорога ему заказана. Ну, все-таки я заснул, как петушки пропели.
Утром — солнце, смотрю, горит, над Барминихиным садом вышло. Вот хорошо-то, крендель-то понесут открыто, сахарные слова не растекутся. Отец — слышу его веселый голос — уже вернулся, у ранней обедни был, как всегда в свой именинный день. Поет в столовой любимую мою песенку — «Не уезжай, голубчик мой, — не покидай поля родные…». Господи, хорошо-то как… сколько будет всего сегодня! В доме все перевернуто: в передней новые полочки поставили, для кондитерских пирогов и куличей, в столовой «закусочная горка» будет, и еще прохладительная — воды, конфеты, фрукты; на обед и парадный ужин накроют столы и в зале, и в гостиной, а в кабинете и в матушкиной рабочей комнате будут карточные столы.
Хоть и День Ангела, а отец сам засветил все лампадки, напевая мое любимое — «Кресту‑у Тво-е-му‑у…» — слышал еще впросонках, до песенки. И скворца с соловьями выкупал, как всегда, и все клетки почистил, и корму задал нашим любимым птичкам. Осень глухая стала, а канарейки в столовой так вот и заливаются, — пожалуй, знают, что именины хозяина. Все может чувствовать божья тварь, Горкин говорит.
В новом, золотисто-коричневом, костюмчике, со шнурочками и золотистыми стеклянными пуговками, я вбегаю в столовую и поздравляю отца со Днем Ангела. Он вкушает румяную просвирку и запивает сладкой-душистой «теплотцою» — кагорчиком с кипятком: сегодня он причащался. Он весь душистый, новый какой-то даже: в голубом бархатном жилете с розанами, в белоснежной крахмальней рубашке, без пиджака, и опрыскался новым флердоранжем, — радостно пахнет праздничным от него. Он весело спрашивает меня, что подарю ему. Я подаю ему листочек со стишками. Все, даже Сонечка, слушают с удивлением, как я наизусть вычитываю — «Мой сад с каждым днем увядает…» — даже «пастурций» не спутал, вместо «настурций». А когда я горько вздохнул и молитвенно выговорил-пропел, как наставляла Сонечка, — «О, если бы крылья и мне!..» — отец прихватил меня за щечку и сказал: «да ты, капитан, прямо, артист Мочалов!» — и подарил мне серебряный рубль. И все хвалили, даже фирсановские официанты, ставившие закуски на «горке», сунули мне в кармашек горячий пирожок с ливером.
И вдруг, закричали с улицы — «парадное отворяй, несут!..». А это крендель несут!..
Глядим в окошко, а на улице на-роду!!!.. — столько народу, из лавок и со дворов бегут, будто икону принимаем, а огромный румяный крендель будто плывет над всеми. Такой чудесный, невиданный, вкусный-вкусный, издали даже вкусный.
Впереди, Горкин держит подставочку; а за ним четверо, все ровники Василь-Василич с Антоном Кудрявым и Ондрейка с катальщиком Сергеем, который самый отчаянный, задом умеет с гор на коньках скатиться. Разноцветные ленты развеваются со щита под кренделем, и кажется, будто крендель совсем живой, будто дышит румяным пузиком.
— И что такое они придумали, чудачье!.. — вскрикивает отец и бежит на парадное крыльцо.
Мы глядим из сеней в окошко, как крендель вносят в ворота и останавливаются перед парадным. Нам сверху видно сахарные слова на подрумянке:
«хозяину благому»
А на вощеной дощечке сияет золотцем — «…на день Ангела».
Отец обнимает Горкина, Василь-Василича, всех… и утирает глаза платочком. И Горкин, вижу я, утирает, и Василь-Василич, и мне самому хочется от радости заплакать.
Крендель вносят по лестнице в большую залу и приставляют полого на рояле, к стенке. Глядим — и не можем наглядеться, — такая-то красота румяная! и по всем комнатам разливается сдобный, сладко-миндальный дух. Отец всплескивает руками и все говорит:
— Вот это дак уважили… ах, ребята… уважили!..
Целуется со всеми молодцами, будто христосуются. Все праздничные, в новеньких синих чуйках, в начищенных сапогах, головы умаслены до блеска. Отец поталкивает молодцов к закускам, а они что-то упираются — стыдятся словно. «Горка» уже уставлена, и такое на ней богатство, всего и не перечесть; глаза разбегаются смотреть. И всякие колбасы, и сыры разные, и паюсная, и зернистая икра, сардины, кильки, копченые, рыбы всякие, и семга красная, и лососинка розовая, и белорыбица, и королевские жирные селедки в узеньких разноцветных «лодочках», посыпанные лучком зеленым, с пучком петрушечьей зелени во рту; и сиг аршинный, сливочно-розоватый, с коричневыми полосками, с отблесками жирка, и хрящи разварные головизны, мягкие, будто кисель янтарный, и всякое заливное, с лимончиками-морковками, в золотистом ледку застывшее; и груда горячих пунцовых раков, и кулебяки, скоромные и постные, — сегодня день постный, пятница, — и всякий, для аппетиту, маринадец; я румяные расстегайчики с вязигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста, сине-красная, и почки в мадере, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, — соленые грузди-рыжики… — всего и не перепробовать.
Отцу некогда угощать, все поздравители подходят. Он поручает молодцов Горкину и Василь-Василичу. Старенький официант Зернышков накладывает молодцам в тарелочки того-сего, Василь-Василич рюмочки наливает, чокается со всеми, а себе подливает из черной бутылки с перехватцем, горькой. Горкину — икемчику, молодцам — хлебного винца, — «очищенной». И старшие банщицы тут, в павлиньих шалях, самые уважаемые: Домна Панферовна и Полугариха. Все диву, прямо, даются, — как же парадно принимают! — царское, прямо, угощение.
Отец не уходит из передней, принимает народ. Из кухни поднимаются по крутой лестнице рабочие и служащие наши, и «всякие народы», старенькие, убогие, подносят копеечные просвирки-храмики, обернутые в чистую бумажку, желают здоровьица и благоденствия. В детской накрывают официанты стол с мисками, для людей попроще. Звонки за звонками на парадном. Приехали важные монахи из Донского монастыря: настоятель и казначей, большую просфору привезли, в писчей, за печатями, бумаге, — «заздравную». Им подают в зале расстегаи и заливную осетрину, наливают в стаканчики мадерцы, — «для затравки». От Страстного монастыря, от Зачатиевского, от Вознесенского из Кремля — матушки-казначейши привезли шитые подзоры под иконы, разные коврики, шитые бисером подушечки. Их угощает матушка кофеем и слоеными пирожками с белужинкой. Прибывают и с Афонского подворья, — отец всегда посылает на Афон страховые пакеты с деньгами, — поют величание мученику Сергию, закусывают и колбаской, и ветчинкой; по ихнему уставу и мясное разрешается вкушать; очень лососинку одобряют.
С раннего утра несут и несут кондитерские пироги и куличи. Клавнюша с утра у ворот считает, сколько чего несут. Уж насчитал восемь куличей, двадцать два кондитерских пирога и кренделек. А еще только утро. Сестрицы в передней развязывают ленточки на картонках, смотрят, какие пироги. Говорят — кондитерский калач, румяный, из безе, посыпан толченым миндалем и сахарной пудрой, ромовый, от Фельша. Есть уже много от Эйнема, кремовые с фисташками; от Абрикосова; с цукатами, миндально-постный, от Виноградова с Мясницкой, весь фруктовый, желе ананасным залит. И еще разные: миндальные, воздушно-бисквитные, с вареньем, с заливными орехами, в зеленоватом креме из фисташек, куличи и куличики, все в обливе, в бело-розовом сахаре, в потеках. Родные и знакомые, прихожане и арендаторы, подрядчики и «хозяйчики»… — и с подручными молодцами посылают, несут и сами. Отходник Пахомов, большой богач, у которого бочки ночью вывозят «золото» за заставу, сам принес большущий филипповский кулич, но этот кулич поставили отдельно, никто его есть не станет, бедным кусками раздадут. Все полки густо уставлены, а пироги все несут, несут…
В летней мастерской кормят обедом нищих и убогих — студнем, похлебкой и белой кашей. В зимней, где живет Горкин, обедают свои и пришлые, работавшие у нас раньше, и обед им погуще и посытней: солонинка с соленым огурцом, лапша с гусиным потрохом, с пирогами, жареный гусь с картошкой, яблочный пирог, — «царский обед», так и говорят, пива и меду вволю. За хозяина Горкин, а Василь-Василича вызвали наверх, «для разборки». И что ж оказывается?..
Пришли на именины, к парадному обеду, о. Виктор с протодьяконом Примагентовым. Пропели благоденствие дому сему. О. Виктор и сообщает, что сугубая вышла неприятность: прислал записку о. благочинный нашего сорока, Николай Копьев, от Спаса в Наливках, по соседству, почему трезвонили у Казанской, — преосвященного, что ли, встречали, или у нас нонче Пасха? А это кре-нделю был трезвон! Вышел о. Виктор к церкви покропить именинную хлеб-соль, а трапезник со звонарем в трезвон пустили, будто бы о. настоятель благословил ради торжества! — так им Василь-Василич загодя еще объявил, а сие ложь и соблазн великий.
— Вышла сугубая неприятность… а пуще всего, может дойти и до самого высокопреосвященного!
А помимо будущего назидания и даже кары, запретил о. благочинный трапезнику славить по приходу на Рождестве.
Василь-Василич вошел в залу опасливо, кося глазом, будто видит самое страшное, и волосы на голове у него рыжими вихрами встали, словно его таскали за волосы; и рыжая борода у него измялась, и дух от него — живой-то перегар кабацкий. А это он уж заправился сверх меры, подчуя с «горки» молодцов.
О. Виктор приказал ему говорить, как все было. Василь-Василич стал каяться, что так ему в голову вступило, «для уважения торжества». Что уж греха таить, маленько вчера усдобил трапезника и звонаря в трактире солянкой, маленько, понятно, и погрелись… ну, и дернула его нелегкая слукавить: староста, мол, церковный именинник завтра, хорошо бы из уважения трезвон дать… и о. настоятель, мол, никак не воспрещает.
— Простите, ради Христа, батюшка о. Виктор… от душевности так, из уважения торжества… хозяин-то хорош больно!
О. Виктор пораспек его:
— И неистов же ты, Василий… а сколь много раз каялся на духу у меня!
И все мы тут ужасно удивились: Василь-Василич так и рухнул в ноги о. Виктору, головой даже об пол стукнул, будто прощенья просит, как на масленице в прощеное воскресенье. Протодьякон поставил его на ноги и расцеловал трижды, сказав:
— Ну, чистое ты дите, Василич!..
И все мы прослезились. И еще сказал протодьякон:
— Да вы поглядите на сей румяный крендель! Тут, под миндалем-то, сердце человеческое горит любовью!.. ведь это священный крендель!!.
И все мы стали глядеть на крендель. Всю рояль он занял, и весь — такая-то красота румяная!
Тут о. Виктор и говорит:
— А, ведь, сущая правда… это не кренделю-муке трезвон был, а, воистину, — сердцу человеческому. От преизбытка сердца уста глаголят, в Писании сказано. А я добавлю:…«и колокола трезвонят, даже и в неурочный час». Так и донесу, ежели владыка затребует пояснений о трезвоне.
И тут — ну прямо чудо объявилось. Бежит Михал Панкратыч и кричит истово:
— Сам преосвященный в карете… уж не к нам ли?!.
И что же оказалось: к нам! Отец приглашал его на парадный обед, а преосвященный надвое, в раздумчивости, сказал: «Господь приведет — попомню».
И вот, попомнил. Самое празднование тут-то и началось.
Так в сенях грохнуло, словно там стены рухнули, в зале задребезжали стекла, а на парадном столе зажужжало в бокальчиках, как вот большая муха когда влетит. А это наши певчие, от Казанской, и о. протодьякон архиерея встретили, «исполать» ему вскрикнули. Певчие шли отца поздравить, а тут как раз и архиерей подъехал. В доме переполох поднялся, народу набилось с улицы, а Клавнюша стал на колени на дворе и воспел «встречу архиерейскую». А голос у него — будто козел орет. Архиерей даже вопросил, чего это юноша вопит… больной, что ли? И тут вот что еще случилось.
Архиерея под руки повели, все на него глазели, а прогорелый Энтальцев-барин, который в красном картузе ходит, с «солнышком», и нос у него сизый, перехватил у какого-то парнишки пирог от Абрикосова, с лету перехватил — сказал: «от Бутина-лесника, знаю! я сам имениннику вручу, скажи — кланяются, мол, и благодарят». И гривенник тому в руку сунул. Это уж потом узнали. А парнишка-раззява доверился и ушел. Барин отдал пирог Василь-Василичу и сказал:
— От меня, дорогому имениннику. От тетки наследство получил, вот и шикнул. Но только вы меня теперь за главный стол посадите, как почетного гостя, а не за задний стол с музыкантами, как летось, я не простой какой!
Сестры, как раскрыли пирог, так и вскричали:
— Какой чудесный! сладкая ваза с грушами из марципана! это в десять рублей пирог!..
И ромом от пирога, такое благоухание по комнатам. А это Бутин, из благодарности, что у него лес на стройки покупаем. Вечером все и разузналось, как сам Бутин поздравлять приехал, и такая неприятность вышла…
Архиерея вводят осторожно, под локотки. Слабым голосом вычитывает он что-то напевное перед иконой «Всех Праздников», в белой зале. И опять страшно грохнуло, даже в рояле гукнуло, и крендель пополз было по зеркальной крышке, да отец увидал и задержал. Архиерей стал ухо потирать, заморщился. Слабенький он был, сухонький, комарик словно, ликом серенький, как зола. Сказал протодьякону — потряс головкой:
— Ну, и наградил тя Господь… не глас у тебя, а рык львиный.
Болезно улыбнулся, благословил и милостиво дал приложиться к ручке.
Именинный обед у нас всегда только с близкими родными. А тут и монахи чего-то позадержались, пришлось и их пригласить. День выпал постный, так что духовным лицам и постникам рыбное подавали, лучше даже скоромного. И как подали преосвященному бульон на живых ершах и парочку расстегайчиков стерляжьих с зернистой икоркой свежей, «архиерейской», — такую только рыбник Колганов ест, — архиерей и вопрошает, откуда такое диво-крендель. Как раз за его спиной крендель был, он уж его приметил, да и дух от кренделя истекал, миндально-сладкий, сдобный такой, приятный. Отец и сказал, в чем дело. И о. Виктор указал на поучительный смысл кренделя сего. Похвалил преосвященный благое рвение, порадовался, как наш христолюбивый народ ласку ценит. А тут тетя Люба, — «стрекотуньей» ее зовут, всегда она бухнет сперва, а потом уж подумает, — и ляпни:
— Это, преосвященный владыка, не простой крендель, в нем сердце человеческое, и ему за то трезвон был!
Так и сгорели от стыда. Преосвященный, как поднял расстегайчик, так и остановился, и не вкусил: будто благословлял нас расстегайчиком, очень похоже было. Протодьякон махнул на тетю Любу, да рукавным воскрылием лиловым бутылку портвейнца и зацепил, и фужерчики на пол полетели. А о. Виктор так перепугался, что и словечка не мог сказать. А тут преосвященный и погрози расстегайчиком: что-то ему, пожалуй, показалось, — уж над ним не смеются ли. А смеялись в конце стола, где сидели скоромники и вкушали куриный бульон со слоеными пирожками, а пуще всех барин Энтальцев, чуть не давился смехом: рад был, что посадили-таки с гостями, из уважения к пирогу.
Повелел преосвященный отцу Виктору пояснить, какой такой кренделю… тре-звон был, в каком приходе? Тот укрепился духом и пояснил. И что же вышло! Преосвященный весь так ликом и просветлел, будто блаженный сделался. Ручки сложил ладошками, с расстегайчиком, и молвил так:
— Сколь же предивно сие, хотя и в нарушение благочиния. По движению сердца содеяно нарушение сие. Покажите мне грешника.
И долго взирал на крендель. И все взирали, в молчании. Только Энтальцев крякнул после очищенной и спросил:
— А как же, ваше преосвященство, попускают недозволительное? На сладости выпечено — «Благому», а сказано — что?! — «никто же благ, токмо един…»?
И не досказал, про Бога. Строго взглянул на него преосвященный и ручкой с расстегайчиком погрозил. И тут привели Василь-Василича, в неподобном виде, с перепугу. Горкин под руку его вел-волочил. Рыжие вихры Василь-Василича пали на глаза, борода смялась набок, розовая рубаха вылезла из-под жилетки. А это с радости он умастился так, что о. Виктор с него не взыскал, а даже благословил за сердца его горячность. Поглядел на него преосвященный, головкой так покивал и говорит:
— Это, он что же… в себе или не в себе?
И поулыбался грустно, от сокрушения.
Горкин поклонился низко-низко и молитвенно так сказал:
Разогрелся малость, ваше преосвященство… от торжества.
А преосвященный вдруг и признал Василь-Василича:
— А‑а… помню-помню его… силач-хоругвеносец! Да воздастся ему по рвению его.
И допустил поднести под благословение.
Подвели его, а он в ножки преосвященному пал, головой об пол стукнулся. И благословил его истово преосвященный. И тут такое случилось… даже и не сказать.
Тихо стало, когда владыка благословлял, и все услыхали тоненький голосок, будто дите заплакало, или вот когда лапку собачке отдавили: пи-и-и‑и… Это Василь-Василич заплакал так. Повели его отдыхать, а преосвященный и говорит, будто про себя.
— И в этом — все.
И стал расстегайчик вкушать. Никто сих слов преосвященного не понял тогда: один только протодьякон понял их сокровенный смысл — Горкин мне после сказывал. Размахнулся воскрылием рукавным, чуть владыку не зацепил, и испустил рыканием:
— Ваше Преосвященство, досточтимый владыка… от мудрости слово онемело!..
Никто не понял. Разобрали уж после все. Горкин мне рассказал, и я понял. Ну, тогда-то не все, пожалуй, понял, а вот теперь… Теперь я знаю: в этом жалобном, в этом детском плаче Василь-Василича, медведя видом, было: и сознание слабости греховной, и сокрушение, и радостное умиление, и детскость души его, таившейся за рыжими вихрами, за вспухшими глазами. Все это понял мудрый владыка: не осудил, а благословил. Я понимаю теперь: тогда, в писке-стоне Василь-Василича, в благословении, в мудром владычнем слове — «и в этом — все!» — самое-то торжество и было.
И во всем было празднование и торжество, хотя и меньшее. И в парадном обеде, и в том, как владыка глаз не мог отвести от кренделя, живого! — так все и говорили, что крендель в живом румянце, будто он радуется и дышит и в особенно ласковом обхождении отца с гостями. Такого парадного обеда еще никто не помнил: сколько гостей наехало! Приехали самые почетные, которые редко навещали: Соповы, богачи Чижовы-староверы, Варенцовы, Савиновы, Кандырины… и еще, какие всегда бывали: Коробовы, Болховитиновы, Квасниковы, Каптелины-свещники, Крестовниковы-мыльники, Федоровы-бронзовщики — Пушкину ногу отливали на памятник… и много-много. И обед был не хуже парадного ужина, — называли тогда «вечерний стол».
Уж на что владыка великий постник, — в посты лишь соленые огурцы, грузди да горошек только сухой вкушает, а и он «зачревоугодничал», — так и пошутил сам. На постное отделение стола, покоем, — «П» — во всю залу раздвинули столы официанты, — подавали восемь отменных перемен: бульон на живом ерше, со стерляжьими расстегаями, стерлядь паровую — «владычную», крокеточки рыбные с икрой зернистой, уху налимью, три кулебяки «на четыре угла», — и со свежими белыми грибами, и с вязигой в икре судачьей, — и из лососи «тельное», и волован-огратэ, с рисовым соусом и с икорным впеком; и заливное из осетрины, и воздушные котлетки из белужины высшего отбора, с подливкой из грибков с каперсами-оливками, под лимончиком; и паровые сиги с гарниром из рачьих шеек; и ореховый торт, и миндальный крем, облитый духовитым ромом, и ананасный ма-се-дуван какой-то, в вишнях и золотистых персиках. Владыка дважды крема принять изволил, а в ананасный маседуван благословил и мадерцы влить.
И скоромникам тоже богато подавали. Кулебяки, крокеточки, пирожки; два горячих — суп с потрохом гусиным и рассольник; рябчики заливные, отборная ветчина «Арсентьича». Сундучного ряда, слава на всю Москву, в зеленом ростовском горошке-молочке; жареный гусь под яблоками, с шинкованной капустой красной, с румяным пустотелым картофельцем — «пушкинским», курячьи, «пожарские» котлеты на косточках в ажуре; ананасная, «курьевская», каша, в сливочных пеночках и орехово-фруктовой сдобе, пломбир в шампанском. Просили скоромники и рыбного повкусней, а протодьякон, приметили, воскрылием укрывшись, и пожарских котлеток съел, и два куска кулебяки ливерной.
Перед маседуваном, вызвали певчих, которые пировали в детской, «на заднем столе с музыкантами». А уж они сомлели: баса Ломшакова сам Фирсанов поддерживал под плечи. И сомлели, а себя помнили, — доказали. О. протодьякон разгорелся превыше меры, но так показал себя, что в передней шуба упала с вешалки, а владыка ушки себе прикрыть изволил. Такое многолетие ему протодьякон возгласил, — никто и не помнил такого духотрясения. Как довел до… «…мно-гая лет-та-а-а‑а…» — приостановился, выкатил кровью налитые глаза, страшные-страшные… хлебнул воздуху, словно ковшом черпнул, выпятил грудь, горой-животом надулся… — все так и замерли, будто и страх, и радость, что-то вот-вот случится… а официант старичок ложечки уронил с подноса. И так-то ахнул… так во все легкие-нелегкие запустил… — грохот, и звон и дребезг. Все глядели потом стекло в окошке, напротив как раз протодьяконова духа, — лопнуло, говорят, от воздушного сотрясения, «от утробы». И опять многолетие возгласил — «дому сему» и «домовладыке, его тезоименитство ныне зде празднуем»… со чады и домочадцы… — чуть ли еще не оглушительнее; говорили — «и ка-ак у него не лопнет..?!» — вскрикнула тетя Люба, шикнули на нее. Я видел, как дрожали хрусталики на канделябрах, как фужерчики на столе тряслись и звякали друг о дружку… — и все потонуло-рухнуло в бешеном взрыве певчих. Сказывали, что на Калужском рынке, дворов за двадцать от нас, слышали у басейной башни, как катилось последнее — «лет-та-а-а‑а…» — протодьякона. Что говорить, слава на всю Москву, и до Петербурга даже: не раз оптовики с Калашниковской и богатеи с Апраксина рынка вызывали депешами — «возгласить». Кончил — и отвалился на пододвинутое Фирсановым большое кресло, — отдыхивал, отпиваясь «редлиховской» с ледком.
И так, после этой бури, упокоительно-ласково прошелестело слабенькое-владычнее — «мир ти». И радовались все, зная, как сманивал «казанскую нашу славу» Город, сулил золотые горы: не покинул отец протодьякон Примагентов широкого, теплого Замоскворечья.
Пятый час шел, когда владыку, после чаю с лимончиком, проводили до кареты, и пять лучших кондитерских пирогов вставили под сиденье — «для челяди дома владычного». Благословил он всех нас — мы с отцом подсаживали его под локоток, — слабо так улыбнулся и глазки завел — откинулся: так устал. А потом уложили о. протодьякона в кабинете на диване, — подремать до вечернего приезда, до азартного боя-«трынки», которая зовется «подкаретной».
Гости все наезжают, наезжают. Пироги-куличи несут и несут все гуще. Клавнюша все у ворот считает; там и закусывал, как бы не пропустить, а просчитался. Сестры насчитали девяносто три пирога, восемнадцать больших куличей и одиннадцать полуторарублевых кренделей, а у него больше десятка не хватало: когда владыку встречал-вопил, тут, пожалуй, и просчитался.
Стемнело. И дождь, говорят, пошел. Приехал лесник Бутин, и говорит отцу:
— Ну, как, именинник дорогой, угодил ли пирожком, заказанным особливо?
А отец и не знает, какой пирожок от Бутина. Помялся Бутин: настаивать неловко, будто вот говоришь: «как же вы пирожка-то моего не уважили?» Отец сейчас же велел дознать, какой от Бутина принесли пирог. Все пироги переглядели, все картонки, — нашли: в самом высоком пироге, в самом по виду вкусном и дорогом, от Абрикосова С‑ья, «по личному-особому заказу», нашли в марципанных фруктах торговую карточку — «Склад лесных матерьялов Бутина, что на Москва-реке…» Его оказался пирог-то знаменитый! А сестры спорят: «это Энтальцев-барин презентовал!» На чистую воду все и вывели: Клавнюша сам все видал, а не сказал: боялся на всем народе мошенником осрамить барина Энтальцева: греха-искушения страшился. Хватились Энтальцева, а он уж в каретнике упокояется.
К ночи гостей полон дом набился. Приехали самые важнецкие. И пироги, самые дорогие, и огромные коробки отборных шоколадных конфет — детям, парадное все такое, и все оставляется в передней, будто стыдятся сами преподнести. Уж Фирсанов с официантами с ног посбились, а впереди парадный ужин еще, и закуски на «горке» все надо освежить, и требуют прохладительных напитков. То и дело попукивают пробки, — играет «ланинская» вовсю. Прибыли, наконец, и «живоглоты»: Кашин-крестный и дядя Егор, с нашего же двора: огромные, тяжелые, черные, как цыганы; и зубы у них большие, желтые; и самондравные они, не дай Бог. Это Василь-Василич их так прозвал — «живоглоты». Спрашиваю его: «а это чего, живоглоты… глотают живых пескариков?»
А Горкин на меня за это погрозился. А я потому так спросил, что Денис принес как-то с Москва-реки живой рыбки, Гришка поймал из воды пескарика и проглотил живого, а Денис и сказал ему; «ишь ты, живоглот!». А они потому такие, что какими-то вексельками людей душат, и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить.
Сейчас же протодьякона разбудили, на седьмом сне, — швыряться в «трынку». Дядя Егор поглядел на крендель, зачвокал зубом, с досады словно, и говорит:
— «Благому»!.. вот, дурачье!.. Лучше бы выпекли — «пло-хо-му!».
А отец и говорит, грустно так:
— Почему же — «плохому»? разве уж такой плохой?
А дядя Егор, сердито так, на крендель:
— Народишко балуешь-портишь, потому! Отец только отмахнулся: не любит ссор и дрязг, а тут именины, гости. Был тут, у кренделя, протодьякон, слышал. Часто так задышал и затребовал парочку «редлиховских-кубастеньких», для освежения. Выпил из горлышка прямо, духом, и, будто из живота, рыкнул:
— А за сие ответишь ты мне, Егор Васильев… полностью ответишь! Сам преосвященный хвалу воздал хозяину благому, а ты… И будет с тобой у меня расправа строгая.
И пошла у них такая лихая «трынка» — все ахнули. И крик в кабинете был, и кулаками стучали, и весь-то кабинет рваными картами закидали, и полон угол нашвырял «кубастеньких» протодьякон, без перерыву освежился. И «освежевал», — так и возопил в радости, — обоих «живоглотов». Еще задолго до ужина прошвыряли они ему тысяч пять, а когда еще богачи подсели, — всех догола раздел, ободрал еще тысяч на семь. Никто такого и не помнил. Бил картой и приговаривал, будто вколачивал:
— А кре-ндель-миндал… ви-дал?..
Суд-расправу и учинил. Не он учинил, — так все и говорил, — а… «кре-ндель, на правде и чистоте заквашенный». А учинив расправу, размахнулся: сотнягу молодцам отсчитал, во славу Божию.
Ужин был невиданно парадный.
Было — «как у графа Шереметьева», расстаралсяФирсанов наш. После заливных, соусов-подливок, индеек рябчиками-гарниром, под знаменитым рябчичным соусом Гараньки; после фаршированных каплунов и новых для нас фазанов — с тонкими длинными хвостами на пружинке, с брусничным и клюквенным желе, — с Кавказа фазаны_ прилетели! — после филе дикого кабана на вертеле, подали — вместо «удивления»! — по заказу от Абрикосова, вылитый из цветных леденцов душистых, в разноцветном мороженом, светящейся изнутри — живой «Кремль»! Все хвалили отменное мастерство. Отец и говорит:
— Ну, вот вам и «удивление». Да вас трудно и удивить, всего видали.
И приказал Фирсанову:
— Обнеси, голубчик, кто желает, прохладиться, арбузом… к Егорову пришли с Кавказа.
Одни стали говорить — «после такого мороженого да арбузом!..». А другие одобрили: «нет, теперь в самый раз арбузика!..»
И вносит старший официант Никодимыч, с двумя подручными, на голубом фаянсе, — громадный, невиданный арбуз! Все так и загляделись. Темные по нем полосы, наполовину взрезан, алый-алый, сахарно-сочно-крупчатый, светится матово слезой снежистой, будто иней это на нем, мелкие черные костянки в гнездах малинового мяса… и столь душистый, — так все и услыхали: свежим арбузом пахнет, влажной, прохладной свежестью. Ну, видом одним — как сахар прямо. Кто и не хотел, а захотели. Кашин первый попробовал — и крикнул ужасно непристойно — «а, черрт!..» Ругнул его протодьякон — «за трапе-зой такое слово!..». И сам попался: «вот-дак ч…чуде-сия!..», и вышло полное «удивление»; все попались, опять удивил отец, опять «марципан», от Абрикосова С‑ья.
И вышло полное торжество.
А когда ужин кончился, пришел Горкин. Он спал после обеда, освежил и Василь-Василича. Спрашиваю его:
— А что… говорил-то ты… «будто весна пришла»? бу-дет, а?..
Он мне мигает хитро: бу-дет. Но что же будет?
Фирсанов велит убирать столы в зале, а гостей просят перейти в гостиную, в спальню, откуда убраны ширмы и кровати, и в столовую. «Трынщиков» просят чуть погодить, проветрить надо, шибко накурено, головы болят у барынь. Открыли настежь выставленные в зале рамы. Повеяло свежестью снаружи, арбузом будто. Потушили лампы и пылкие свечи в канделябрах. Обносят — это у нас новинка, — легким и сладким пуншем; для барынь — подносы с мармеладом и пастилой, со всякими орешками и черносливом, французским, сахарным и всякой персидской сладостью…
И вдруг… — в темном зале, где крендель на рояле, заиграл тихо, переливами, детский простой органчик, какие вставляются в копилочки и альбомчики… нежно-нежно так заиграл, словно звенит водичка, радостное такое, совсем весеннее. Все удивились: да хорошо-то как, простенькое какое, милое… ах, приятно! И вдруг… — соловей!.. живой!.. Робея, тихо, чутко… первое свое подал, такое истомно-нежное, — ти-пу… ти-пу… ти-пу… — будто выкликивает кого, кого-то ищет, зовет, тоскуя…
Солодовкин-птичник много мне после про соловьев рассказывал, про «перехватцы», про «кошечку», про «чмоканье», про «поцелуйный разлив» какой-то…
Все так и затаились. Дышать стало даже трудно, от радости, от счастья, — вернулось лето!..Ти-пу, ти-пу, ти-пу… чок-чок-чок-чок… третррррррр… — но это нельзя словами. Будто весна пришла. Умолк органчик. А соловушка пел и пел, будто льется водицей звонкой в горлышке у него. Ну, все притихли и слушали. Даже дядя Егор, даже ворчунья Надежда Тимофеевна, скряга-коровница, мать его…
Чокнул в последний раз, рассыпал стихавшей трелью — и замолчал. Все вздохнули, заговорили тихо: «как хорошо-то… Го-споди!..» — «будто весной, в Нескучном…»
Поздно, пора домой: два пробило.
Горкин отцу радость подарил, с Солодовкиным так надумал. А отец и не знал. Протодьякон разнежился, раскинулся на креслах, больше не стал играть. Рявкнул:
— Горка!.. гряди ко мне!..
Горкин, усталый, слабый, пошел к нему, светясь ласковыми морщинками. Протодьякон обнял его и расцеловал, не молвя слова. Празднование закончилось.
Отец, тихий, задумчивый, уставший, сидел в уголку гостиной, за филодендроном, под образом «Рождества Богородицы», с догоравшей малиновой лампадкой. Сидел, прикрывши рукой глаза.
О. А. Бредиус-Субботиной
Михайлов день
Я давно считаю, — с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, уходившим в деревню на зиму, — сколько до Михайлова Дня осталось: Горкина именины будут. По-разному все выходит, все много остается. Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы:
— Ну, чего ты такой нетерпеливый… когда да когда? все в свое время будет.
Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки, как буду спать ложиться: «все веселей тебе будет ждать». Два денька только остается: две метинки осталось.
На дворе самая темная пора: только пообедал, а уж и ночь. И гулять-то невесело, — грязища, дождик, — не к чему руки приложить. Большая лужа так разлилась, хоть барки по ней гоняй: под самый курятник подошла, курам уж сделали мосточки, а то ни в курятник, ни из курятника: уже петух внимание обратил, Марьюшку криком донял, — «что же это за непорядки!..» — разобрали по голоску. А утки так прямо и вплывают в садок-сарайчик, полное им приволье.
В садике пусто, голо, деревья плачут; последнюю рябину еще до Казанской сняли, морозцем уж хватило, и теперь только на макушке черные кисточки, для галок. Горкин говорит:
— Самый теперь грязник, ни на санях, ни на колесах, до самых моих именин… Михайла-Архангел всегда ко мне по снежку приходит.
В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят. Вот Василь-Василич и поехал отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика, сальцем смазали подреза и ремешки: морозы скоро, каток в Зоологическом саду откроем, под веселыми флагами, переглядели и салазки: скоро будет катанье с гор. Воротится Василь-Василич — горы осматривать поедем… Не успеешь и оглянуться — Николин День, только бы укатать снежком, под морозы залить поспеть.
Отец уже ездил в Зоологический сад, распорядился. Говорит, — на пруду еще «сало» только, а пора и «ледяной дом» строить… как запоздало-то! Что за «ледяной дом?..». Сколько же всего будет… зима бы только скорей пришла. У меня уж готовы саночки, и Ондрейка справил мне новую лопаточку. Я кладу ее спать с собой оглаживаю ее, нюхаю и целую: пахнет она живой елкой радостным-новым чем-то, — снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, снегом весь двор завален… копаю, и… лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла!.. Проснешься, — ах, вот она! теплая, шелковая, как тельце. Еще темно на дворе, только затапливают печи… вскакиваю, бегу босиком к окошку: а, все та же мокрая грязь чернеет. А, пожалуй, и хорошо, что мокро: Горкин говорит, что зима не приходит посуху, а всегда на грязи становится. И он все никак не дождется именин, я чувствую: самый это великий день, сам Михайла-Архангел к нему приходит.
Мастерскую выбелили заново, стекла промыли с мелом; между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ваткой, а по ватке разложены шерстинки, — зеленые, голубые, красные, — и розочки с кондитерских пирогов, из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком, — надо почистить, день такой: порадовать надо Ангела.
Только денек остался. Воротился Василь-Василич, привез гостинчиков. Такой веселый, — с бражки да с толокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки вырвали. Отцу — рябчиков вологодских, не ягодничков, а с «почки» да с можжухи, с горьковинкой, — в Охотном и не найти таких. Михал Панкратычу мешочек толоконца, с кваском хлебать, Горкин любит, и белых грибов сушеных-духовитых. Мне ростовский кубарь и клюквы, и еще аржаных лепешек с соломинками, — сразу я сильный стану. Говорит, — «сорок у нас там…! — к большим снегам, лютая зима будет». Всех нас порадовал. Горкин сказал: «без тебя и именины не в именины». В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься.
Панкратыч уже прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, пожелают поглядеть святыньки. А святынек у Горкина очень много.
Весь угол его каморки уставлен образами, додревними. Черная — Казанская — отказала ему прабабушка Устинья; еще — Богородица-Скорбящая, — литая на ней риза, а на затыле печать припечатана — под арестом была Владычица, раскольницкая Она, верный человек Горкину доставил, из-под печатей. Ему триста рублей давали староверы, а он не отдал: «на церкву отказать — откажу», — сказал, — «а Божьим Милосердием торговать не могу». И еще — «темная Богородица», лика не разобрать, которую он нашел, когда на Пресне ломали старинный дом: с третьего яруса с ней упал, с балками рухнулся, а опустило безо вреда, ни царапины! Еще — Спаситель, тоже очень старинный, «Спас» зовется. И еще — «Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных», в серебряной литой ризе, додревних лет. Все образа почищены, лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками, старинного литья, 84-ой пробы. Под Ангела шелковый голубой подзор подвесил, в золотых крестиках, от Троицы, — только на именины вешает. Справа от Ангела — медный нагробный Крест: это который нашел в земле на какой-то стройке; на старом гробу лежал, — таких уж теперь не отливают. По кончине откажет мне. Крест до того старинный, что мел его не берет, кирпичом его надо чистить и бузиной: прямо как золотой сияет. Подвешивает еще на стенку двух серебряных… как они называются?.. не херувимы, а… серебряные святые птички, а головки — как девочки, и над головками даже крылышки, и трепещут?.. Спрашиваю его: «это святые… бабочки?» Он смеется, отмахивается:
— А‑а… чего говоришь, дурачок… Силы это Бесплотные, шесто-кры-лые это Серафимы, серебрецом шиты, в Хотькове монашки изготовляют… ишь, как крылышками трепещут в радости!..
И лицо его, в морщинках, и все морщинки сияют-улыбаются. Этих Серафимчиков он только на именины вынимает: и закоптятся, и муха засидеть может.
На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, принесенные добрыми людьми, — иерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, на бархатной дощечке, — самые главные святыньки: колючка терна ерусалимского с горы Христовой, — Полугариха-банщица принесла, ходила во Святую Землю, — сухая оливошная ветка, от садов Ифсеманских взята, «пилат-камень», с какого-то священного-древнего порожка, песочек ерданский в пузыречке, сухие цветки, священные… и еще много святостей: кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, камушки и сухая рыбка, Апостолы где ловили, на окунька похожа. Святыньки эти он вынимает, только по большим праздникам.
Убирает с задней стены картинку — «Как мыши кота погребали» — и говорит:
— Вася это мне навесил, скопец ему подарил.
Я спрашиваю:
— Ску-пец?
— Ну, скупец. Не ндравится она мне, да обидеть Василича не хотел, терпел… мыши тут не годятся.
И навешивает новую картину — «Два пастыря». На одной половинке Пастырь Добрый — будто Христос, — гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие; а на другой — дурной пастырь, бежит, растерзанный весь, палку бросил, и только подметки видно; а волки дерут овечек, клочьями шерсть летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых лоскутков, подарок Домны Панферовны.
— На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая… ишь, приукрасило как коморочку.
Я ему говорю:
— Тебя завтра одеялками завалят. Гришка смеялся.
— Глупый сказал. Правда, в прошедчем годе два одеяла монашки подарили, я их пораздовал.
Под Крестом Митрополита повесить думает, дьячок посулился подарить.
— Бог приведет, пировать завтра будем, — первый ты у меня гость будешь. Ну, батюшка придет, папашенька добывает, а ты все первый, ангельская душка. А вот зачем ты на Гришу намедни заплевался? Лопату ему расколол, он те побранил, а ты — плеваться. И у него тоже Ангел есть, Григорий Богослов, а ты… За каждым Ангел стоит, как можно… на него плюнул — на Ангела плюнул!
На Ангела?!. Я это знал, забыл. Я смотрю на образ Архистратига Михаила: весь в серебре, а за ним крылатые воины и копья. Это все Ангелы, и за каждым стоят они, и за Гришкой тоже, которого все называют охальником.
— И за Гришкой?..
— А как же, и он образ-подобие, а ты плюешься. А ты вот как: осерчал на кого — сейчас и погляди за него, позадь, и вспомнишь: стоит за ним! И обойдешься. Хошь царь, хошь вот я, плотник… одинако, при каждом Ангел. Так прабабушка твоя Устинья Васильевна наставляла, святой человек. За тобой Иван Богослов стоит… вот, думает, какого плевальщика Господь мне препоручил! — нешто ему приятно? Чего оглядываешься… боишься?
Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь.
— Так вот все и оглядывайся, и хороший будешь. И каждому Ангелу день положен, славословить чтобы… вот человек и именинник, и ему почет-уважение, по Ангелу. Придет Григорий Богослов — и Гриша именинник будет, и ему уважение, по Ангелу. А завтра моему: «Небесных воинств Архистратизи… начальницы высших сил бесплотных…» — поется так. С мечом пишется, на святых вратах, и рай стерегет, — все мой Ангел. В рай впустит ли? Это как заслужу. Там не по знакомству, а заслужи. А ты плюешься…
В летней мастерской Ондрейка выстругивает стол: завтра тут нищим горячее угощение будет.
— Повелось от прабабушки твоей, на именины убогих радовать. Папашенька намедни, на Сергия-Вакха, больше полста кормил. Ну, ко мне, бедно-бедно, а десятка два притекут, с солонинкой похлебка будет, будто мой Ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и кусок в глотку не полезет, пировать-то станем. Ну, погодку пойдем-поглядим.
Падает мокрый снег. Черная грязь, все та же. От первого снежка сорок день минуло, надо бы быть зиме, а ее нет и нет. Горкин берет досточку и горбушкой пальца стучит по ней.
— Суха досточка, а постук волглый… — говорит он особенно как-то, будто чего-то видит, — и смотри ты, на колодуе-то по железке-то, побелело!.. это уж к снегопаду, косатик… к снегопаду. Сказывал тебе — Михаил-Архангел навсягды ко мне по снежку приходит.
Небо мутное, снеговое. Антипушка справляется:
— В Кремь поедешь, Михал Панкратыч?
В Кремль. Отец уж распорядился, — на Чаленьком повезет Гаврила. Всегда под Ангела Горкин ездит к Архангелам, где собор.
— И пеш прошел бы, беспокойство такое доставляю. И за чего мне такая ласка!.. — говорит он, будто ему стыдно.
Я знаю: отец после дедушки совсем молодой остался, Горкин ему во всем помогал-советовал. И прабабушка наставляла: «Мишу слушай, не обижай». Вот и не обижает. Я беру его за руку и шепчу: «и я тебя всегда-всегда буду слушаться, не буду никогда обижать».
Три часа, сумерки. В баню надо сходить-успеть, а потом — ко всенощной.
Горкин в Кремле у всенощной. Падает мокрый снег; за черным окном начинает белеть железка. Я отворяю форточку. Видно при свете лампы, как струятся во мгле снежинки… — зима идет?.. Высовываю руку — хлещет! Даже стегает в стекла. И воздух… — белой зимою пахнет. Михаил Архангел все по снежку приходит.
Отец шубу подарит Горкину. Скорняк давно подобрал из старой хорьковой шубы, а портной Хлобыстов обещался принести перед обедней. А я‑то что подарю?.. Банщики крендель принесут, за три рубля. Василь-Василич чайную чашку ему купить придумал. Воронин, булочник, пирог принесет с грушками и с желе, дьячок вон Митрополита посулился… а я что же?.. Разве «Священную Историю» Анохова подарить, которая без переплета? и крупные на ней буковки, ему по глазам как раз?.. В кухне она, у Марьюшки, я давал ей глядеть картинки.
Марьюшка прибирается, скоро спать. За пустым столом Гришка разглядывает «Священную Историю», картинки. Показывает на Еву в раю и говорит:
— А ета чего такая, волосами прикрыта, вся раздемши? — и нехорошо смеется.
Я рассказываю ему, что это Ева, безгрешная когда была, в раю. с Адамом-мужем, а когда согрешила, им Бог сделал кожаные одежды. А он прямо как жеребец, гогогочет, Марьюшка дураком его даже назвала. А он гогочет:
— Согрешила — и обновку выгадала, ло-вко!..
Ну, охальник, все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть… смотрю за его спиной, вижу тень на стене за ним… — и вспоминаю про Ангела, который стоит за каждым. Вижу в святом углу иконку с засохшей вербочкой, вспоминается «Верба», веселое гулянье, Великий Пост… — «скоро буду говеть, в первый раз». Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему:
— Гриша… я на тебя плюнул вчера… ты не сердись уж… — и растираю картинку пальцем.
Он смотрит на меня, и лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то грустном.
— Эна ты про чего… а я и думать забыл… — говорит он раздумчиво и улыбается ласково. — Вот, годи… снегу навалит, сваляем с тобой такую ба-бу… во всей-то сбруе!..
Я бегу-топочу по лестнице, и мне хорошо, легко.
Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам снегом, идет зима…
Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет… — вот и пришла зима. Я бегу босой по ледяному полу, влезаю на окошко… — снегу-то, снегу сколько!..
Грязь завалило белым снегом. Антипушка отгребает от конюшни. Засыпало и сараи, и заборы, и Барминихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отворяю форточку… — свежий и острый воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радостью… и ти-хо, глухо. Я кричу в форточку — «Антипушка, зима‑а!» — и мой голос какой-то новый, глухой, совсем не мой, будто кричу в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки тоже, отвечает — «пришла-а‑а…». Лица его не видно: снег не стегает, а густо валит. Попрыгивает в снегу кошка, отряхивает лапки, смешно смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега. Петух все вытягивает головку к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда, ни гляди — все бело.
Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. Лопаточка глубоко уходит, по мою руку, глухо тукает в землю: значит, зима легла. В саду поверх засыпало смородину и крыжовник, малину придавило, только под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похрупывает туго и маслится, — надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо следочки, кто-то уже прошел… Кто?.. Михаил-Архангел? Он всегда по снежку приходит. Но Он — бесследный, ходит по воздуху.
Василь-Василич попискивает сапожками, даже поплясывает как будто… — рад зиме. Спрашивает, чего Горкину подарю. Я не знаю… А он чайную чашку ему купил; золотцем выписано на ней красиво — «В День Ангела». Я‑то что подарю?!
Стряпуха варит похлебку нищим. Их уже набралось к воротам, топчутся на снежку. Трифоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч: хочет первым его поздравить. Шепчет мне: «уж преподнесу ландринчику и мармаладцу, любит с чайком Панкратыч». А я‑то что же?.. Должен сейчас подъехать, ранняя-то уж отошла, совсем светло. Спрашиваю у Гришки, что он подарит. Говорит — «сапожки ему начистил, как жар горят». Отец шубу подарил… бога-тая шуба, говорят, хорь какой! к обедне надел-поехал — не узнать нашего Панкратыча: прямо купец московский.
Вон уж и банщики несут крендель, трое, «заказной», в месяц ему не съесть. Ну, все-то все… придумали-изготовили, а я‑то как же?.. Господи, дай придумать, наставь в доброе разумение!.. Я смотрю на небо… — а вдруг придумаю?!. А Антипушка… он-то что?.. Антипушка тоже чашку, семь гривен дал. Думаю и молюсь, — не знаю. Все мог придумать, а вот — не знаю… Может быть, это он мешает? «Священная История» — вся ободрана, такое дарить нельзя. И Марьюшка тоже приготовила, испекла большую кулебяку и пирог с изюмом. Я бегу в дом.
Отец считает на счетах в кабинете. Говорит — не мешай, сам придумай. Ничего не придумаешь, как на грех. Старенькую копилку разве?.. или — троицкий сундучок отдать?.. Да он без ключика, и Горкин его знает, это не подарок: подарок всегда — незнанный. Отец говорит:
— Хо-рош, гусь… нечего сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озаботился… хо-рош.
Мне стыдно, даже страшно: такой день, порадовать надо Ангела… Михаил-Архангел — всем Ангелам Ангел, — Горкин вчера сказал. Все станут подносить, а Он посмотрит, я‑то чего несу?.. Господи-Господи, сейчас подъедет… Я забираюсь на диван, так сердце и разрывается. Отец говорит:
— Зима на дворе, а у нас дождик. Эка, морду-то наревел!..
Двигает креслом и отпирает ящик.
— Так и не надумаешь ничего?.. — и вынимает из ящика новый кошелек. — Хотел сам ему подарить, старый у него плох, от дедушки еще… Ну, ладно… давай, вместе подарим: ты — кошелек, а я — в кошелек!
Он кладет в кошелек серебреца, новенькие монетки, раскладывает за «щечки», а в середку белую бумажку, «четвертную», написано на ней — «25 рублей серебром», — и… «золотой»!
— Радовать — так радовать, а?!
Средний кармашек — из алого сафьяна. У меня занимает дух.
— Скажешь ему: «а золотенький орелик… от меня с папашенькой, нераздельно… так тебя вместе любим». Скажешь?..
У меня перехватывает в горле, не помню себя от счастья.
Кричат от ворот — «е‑едет…».
Едет-катит в лубяных саночках, по первопутке… — взрывает Чаленький рыхлый снег, весь передок заляпан, влипают комья, — едет, снежком запорошило, серебряная бородка светится, разрумянившееся лицо сияет. Шапка торчком, барашковая; шуба богатая, важнецкая; отвороты пушистые, хорьковые, настоящего темного хоря, не вжелть, — прямо, купец московский. Нищие голосят в воротах:
— С Ангелом, кормилец… Михал Панкратыч… во здравие… сродственникам… царство небесное… свет ты наш!..
Трифоныч, всегда первый, у самого подъезда, поздравляет целуется, преподносит жестяные коробочки, как и нам всегда — всегда перехватит на дворе. Все идут за дорогим именинником в жарко натопленную мастерскую. Василь-Василич снимает с него шубу и раскладывает на широкой лавке, хорями вверх. Все подходят, любуются, поглаживают: «ну, и хо-орь… живой хорь, под чернобурку!..» Скорняк преподносит «золотой лист», — сам купил в синодальной лавке, — «Слово Иоанна Златоуста». Горкин целуется со скорняком, лобызает священный лист, говорит трогательно: «радости-то мне колико, родненькии мои… голубчики!..» — совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному-дьяконски читает «золотой лист»:
«Счастлив тот дом, где пребывает мир…
где брат любит брата, родители пекутся о
детях, дети почитают родителей! Там бла-
годать Господня…»
Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова: с Горкиным мы читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо. Все только:
— Да Господи-батюшка… за что мне такое, Господи-батюшка!..
Все говорят:
— Как так за что!.. хороший ты, Михал Панкратыч… вот за что!
Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин — то их целует, то меня, в маковку. Говорят, — монашки из Зачатиевского монастыря одеяло привезли.
Две монахини входят чинно, будто это служение, крестятся на открытую каморку, в которой теплятся все лампадки. Уважительно кланяются имениннику, подают, вынув из скатерти, стеганое голубое одеяло, пухлое, никаким морозом не прошибет, и говорят распевно:
— Дорогому радетелю нашему… матушка настоятельница благословила.
Все говорят:
— Вот какая ему слава, Михал Панкратычу… во всю Москву!..
Монахинь уважительно усаживают за стол. Василь-Василич подносит синюю чашку в золотце. На столике у стенки уже четыре чашки и кулич с пирогом. Скорняк привешивает на стенку «золотой лист». Заглядывают в каморку, дивятся на образа — «какое Божие Милосердие-то бога-тое… старинное!»
«Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных» весь серебром сияет, будто зима святая, — осеняет все святости.
На большом артельном столе, на его середке, накрытой холстинной скатертью в голубых звездочках, начисто пройденном фуганком, кипит людской самовар, огромный, выше меня, пожалуй. Марьюшка вносит с поклоном кулебяку и пирог изюмный. Все садятся, по чину. Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила кресенькому бархотную туфельку под часики, бисерцем и шелками, — два голубка милуются. Едят кулебяку — и не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солоницей и обещают пропеть стихиры — пославить именинника. Является и псаломщик, парадный, в длинном сюртуке и крахмальном воротничке, и приносит, «в душевный дар», «Митрополита Филарета», — «наимудреющего».
— Отец Виктор поздравляет и очень сожалеет… — говорит он, — У Пушкина, Михайлы Кузьмича, на именинном обеде, уж как обычно‑с… но обязательно попозднее прибудет лично почет-уважение оказать.
И все подходят и подходят, припоздавшие: Денис, с живой рыбой в ведерке… — «тут и налимчик мерный, и подлещики наскочили», — и водолив с водокачки, с ворошком зеленой еще спаржи в ягодках, на образа, и Солодовкин-птичник, напетого скворчика принес. Весь день самовар со стола не сходит.
Только свои остались, поздний вечер. Сидят у пылающей печурки. На дворе морозит, зима взялась. В открытую дверь каморки видно, как теплится синяя лампадка перед снежно блистающим Архистратигом. Горкин рассказывает про царевы гробы в Архангельском соборе. Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит:
— Не простит, он Святого, Митрополита Филиппа, задушил.
Горкин говорит, что Митрополит-мученик теперь Ангел, и все умученные Грозным Царем теперь уж лики ангельские. И все возопиют у Престола Господня: «отпусти ему, Господи!» — и простит Господь. И все говорят — обязательно простит. И скорняк раздумчиво говорит, что, пожалуй, и простит: «правда, это у нас так, в сердцах… а там, у Ангелов, по-другому возмеряют…»
— Всем милость, всем прощение… там все по-другому будет… это наша душа короткая… — воздыхает Антипушка, и все дивятся, мудрое какое слово, а его все простачком считали.
Это, пожалуй, Ангел нашептывает мудрые слова. За каждым Ангел, а за Горкиным Ангел над Ангелами, — Архистратиг. Стоит невидимо за спиной и радуется. И все Ангелы радуются с ним, потому что сегодня день его Славословия, в ему будто именины, — Михайлов День.
Филиповки
Зима, как с Михайлова Дня взялась, так на грязи и улеглась: никогда на сухое не ложится, такая уж примета. Снегу больше аршина навалило, и мороз день ото дня крепчей. Говорят, — даст себя знать зима. Василь-Василич опять побывал в деревне и бражки попил, бока поотлежал, к зиме-то. Ему и зимой жара: в Зоологическом с гор катать, за молодцами приглядывать, пьяных не допускать, шею бы не сломали, катки на Москва-реке и на прудах наладить, к Николину Дню поспеть, Ердань на Крещенье ставить, в рощах вывозку дров наладить к половодью, да еще о каком-то «ледяном доме» все толкуют, — делов не оберешься, только повертывайся. Что за «ледяной дом»? Горкин отмахивается: «чудит папашенька, чего-то еще надумал». Василь-Василич, пожалуй, знает, да не сказывает, подмаргивает только:
— Так удивим Москву, что ахнут!..
Отец радуется зиме, посвистывает-поет:
Пришла зима, трещат морозы,
На солнце искрится снежок;
Пошли с товарами обозы
По Руси вдоль и поперек.
Реки стали, ровная везде дорога. Горкин загадку мне загаднул: «без гвоздика, без топорика, а мост строит»? Не могу я разгадать, а простым-просто: зима. Он тоже зиме рад. Когда‑а еще говорил, — ранняя зима будет, — так по его и вышло: старинному человеку все известно. Отец побаивается, ну-ка возьмется оттепель. Горкин говорит — можно и горы накатывать, не сдаст. Да дело не в горах: а вот «ледяной дом» можно ли, ну-ка развалится? Про «ледяной дом» и в «Ведомостях» уж печатали, вот и насмешим публику. Про «ледяной дом» Горкин сказать ничего не может, дело незнамое, а оттепели не будет — это уж и теперь видать: лед на Москва-реке больше четверти, и дым все столбом стоит, и галки у труб жмутся, а вот-вот и Никольские морозы… — не сдаст нипочем зима. Я спрашиваю:
— Это тебе Бог сказал?
— Чего говоришь-то, глупый, Бог с людьми не говорит.
— А в «Священной Истории»-то написано — «сказал Бог Аврааму-Исааку…»?
— То — святые. Вороны мне сказали. Как так, не говорят?.. повадкой говорят. Коль ворон сила налетела еще до заговен, уж не сумлевайся, ворона больше нас с тобой знает-чует.
— Ее Господь умудряет?
— Господь всякую тварь умудряет. Василь-Василич в деревню ездил, тоже сказывает: ранняя ноне зима будет, ласточки тут же опосле Успенья отлетели, зимы боятся. И со-рок, говорит, несметная сила навалилась, в закутки тискаются, в соломку… — лютая зима будет, такая уж верная примета. Погляди-ка, вороны на помойке с зари толкутся, сила ворон, николи столько не было.
И верно: никогда столько не было. Даже на конуре Бушуя, корочку бы урвать какую. А вчера понес Трифоныч щец Бушую остаточки, дух-то как услыхали сытный, так все и заплясали на сараях. И хитрущие же какие! Бушуй к шайке близко не подпускает, так они что же делают!.. Станет он головой над шайкой, рычит на них, а они кругом уставятся и глядят, — никак к шайке не подскочить, жизни-то жалко. Вот одна изловчится, какая посмелей, заскочит сзаду — дерг Бушуя за хвост! Он на нее — гав-гав!.. — от шайки отвернется, а тут — цоп, из шайки, какая пошустрей, — и на сарай, расклевывать. Так и добывают на пропитание, Господь умудряет. Они мне нравятся, и Горкин их тоже любит, — важнецкие, говорит. В новые шубки к зиме оделись, в серенькие пуховые платочки, похаживают вразвалочку, как тетеньки какие.
В Зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа: помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, — к Николину Дню «скипится». Понесли со двора елки и флаги, для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками и шкаликами, для иллюминации. Отправили на долгих санях железные «сани-дилижаны», — публику с гор катать. Это особенные сани, из железа, на четверых седоков, с ковровыми скамейками для сиденья, с поручнями сзади для молодцов-катальщиков, которые, стоя сзади, на коньках, рухаться будут с высоких гор. А горы высо-кие, чуть ли не выше колокольни. Повезли вороха беговых коньков, стальных и деревянных, и легкие саночки-самолетки с бархатными пузиками-подушками, для отчаянных, которым кричат вдогон — «шею-то не сломи‑и!..» И стульчики на полозьях — прогуливать по ледяному катку барынек с детьми, вороха метел и лопат, ящики с бенгальскиими огнями, ракетами и «солнцами», и зажигательную нитку в железном коробе, — упаси Бог, взорвется! Отец не берет меня:
— Не до тебя тут, все как бешеные, измокши на заливке.
И Горкин словечка не замолвит, еще и поддакивает:
— Свернется еще с горы, скользина теперь там.
Василь-Василич отбирает отчаянных — вести «дилижаны» с гор. Молодцы — рослые крепыши, один к одному, все дерзкие; публику рухать с гор — строгое дело, берегись. Всем делает проверку, сам придумал; каждому, раз за разом, по два стакана водки, становись тут же на коньки, руки под мышки, и — жарь стояком с горы. Не свернулся на скате — гож. Всегда начинает сам, в бараньей окоротке, чтобы ногам способней. Не свернется и с трех стаканов. В прошедшем году Глухой свернулся, а все напрашивается: «мне головы не жалко!» И всем охота: и работка веселая, и хорошо на чаи дают. Самые лихие из молодцов просят по третьему стакану, готовы и задом ахнуть. Василь-Василич, говорят, может и с четырех без зазоринки, может и на одной ноге, другая на отлете.
Принесли разноцветные тетрадки с билетами, — «билет для катанья с гор». В утешение мне дают «нашлепать». Такая машинка на пружинке. В машинке вырезано на медной платке — имя-отчество и фамилия отца, — наша. Я всовываю в закраинку машинки бочки билетов, шлепаю ладошкой по деревянному круглячку машинки, и на билете выдавится, красиво так.
Завтра заговины перед Филиповками. Так Рождественский Пост зовется, от апостола Филиппа: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз почитание его. А там и Введение, а там и Николин День, а там… Нет, долго еще до Рождества.
— Ничего не долго. И не оглянешься, как подкатит. Самая тут радость и начинается — Филиповки! — утешает Горкин. — Какая-какая… самое священное пойдет, праздник на празднике, душе свет. Крестного на Лександру Невского поздравлять пойдем, пешком по Москва-реке, 23 числа ноября месяца. Заговеемся с тобой завтра, пощенье у нас пойдет, на огурчиках — на капустке кисленькой-духовитой посидим, грешное нутро прочистим, — Младенца-Христа стречать. Введенье вступать станет — сразу нам и засветится.
— Чего засветится?
— А будто звезда засветится, в разумении. Как-так, не разумею? За всеношной воспоют, как бы в преддверие, — «Христос рождается — славите… Христос с небес — срящите…» — душа и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. Так все налажено — только разумей и радуйся, ничего и не будет скушно.
На кухне Марьюшка разбирает большой кулек, из Охотного Ряда привезли. Раскапывает засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает в снег, в ящик Судаки крепкие, как камень, — постукивают даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, искрится на огне, — морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима. А под судаками, вся снежная, навага! — сизые спинки, в инее. Все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке, — такой холодок приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус, дольками отделяется; и «зернышки» вспоминаю: по две штучки у ней в головке, за глазками, из перламутра словно, как огуречные семечки, в мелких-мелких иззубринках. Сестры их набирают себе на ожерелья, — будто как белые кораллы. Горкин наважку уважает, — кру-уп-ная-то какая нонче! — слаще и рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. Уж коли к Филиповкам навага, — пришла настоящая зима. Навагу везут в Москву с далекого Беломорья, от Соловецких Угодников, рыбка самая нежная, — Горкин говорит — «снежная»: оттепелью чуть тронет — не та наважка; и потемнеет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла навага, — значит, и зима двинулась: там ведь она живет.
Заговины — как праздник: душу перед постом порадовать. Так говорят, которые не разумеют по духовному. А мы с Горкиным разумеем. Не душу порадовать, — душа радуется посту! — а мамону, по слабости, потешить.
— А какая она, ма-мона… грешная? Это чего, ма-мона?
— Это вот самая она, мамона, — смеется Горкин и тычет меня в живот. — Утро-ба грешная. А душа о посте радуется Ну, Рождество придет, душа и воссияет во всей чистоте, тогда и мамоне поблажка: радуйся и ты, мамона!
Рабочему народу дают заговеться вдоволь, — тяжелая зимняя работа: щи жирные с солониной, рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляется судачком, — и рыбки постом вкушать не будет, — судачьей икоркой жареной, а на заедку драчену сладкую и лапшу молочную: без молочной лапши говорит, не заговины.
Заговины у нас парадные. Приглашают батюшку от Казанской с протодьяконом — благословит на Филиповки. Канона такого нет, а для души приятно, легкосгь душе дает — с духовными ликами вкушать. Стол богатый, с бутылками «ланинской», и «легкое», от Депре-Леве. Протодьякон «депры» не любит, голос с нее садится, с этих-там «икемчиков-мадерцы», и ему ставят «отечественной, вдовы Попова». Закусывают, в преддверие широкого заговенья, сижком, икоркой, горячими пирожками с семгой и яйцами. Потом уж полные заговины — обед. Суп с гусиными потрохами и пирог с ливером. Батюшке кладут гусиную лапку, тоже и протодьякону. Мне никогда не достается, только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой черед на лапку: недавно досталось Коле, прошедшее воскресенье Маничке, — до Рождества теперь ждать придется, Маша ставит мне суп, а в нем — гусиное горло в шерявавой коже, противное самое, пупырки эти. Батюшка очень доволен, что ему положили лапку, мягко так говорит: «верно говорится — „сладки гусины лапки“. Протодьякон — цельную лапку в рот, вытащил кость, причмокнул, будто пополоскал во рту, и сказал: „по какой грязи шлепала, а сладко!“ Подают заливную осетрину, потом жареного гуся с капустой и мочеными яблоками, „китайскими“, и всякое соленье, моченую бруснику, вишни, смородину в веничках, перченые огурчики-малютки, от которых мороз в затылке. Потом — слоеный пирог яблочный, пломбир на сливках и шоколад с бисквитами. Протодьякон просит еще гуська, — „а припломбиры эти“, говорит, „воздушная пустота одна“. Батюшка говорит, воздыхая, что и попоститься-то, как для души потреба, никогда не доводится, — крестины, именины, самая-то именинная пора Филиповки, имена-то какие все: Александра Невского, великомученицы Екатерины, — „сколько Катерин в приходе у нас, подумайте!“ — великомученицы Варвары, Святителя Николая-Угодника!.. — да и поминок много… завтра вот старика Лощенова хоронят… — люди хлебосольные, солидные, поминовенный обед с кондитером, как водится, готовят…». Протодьякон гремит-воздыхает: «гре-хи… служение наше чревато соблазном чревоугодия…» От пломбира зубы у него что-то понывают, и ему, для успокоения накладывают сладкого пирога. Навязывают после обеда щепной коробок детенкам его, «девятый становится на ножки!» — он доволен, прикладывает лапищу к животу-горе и воздыхает: «и оставиша останки младенцам своим». Батюшка хвалит пломбирчик и просит рецептик — преосвященного угостить когда.
Вдруг, к самому концу, — звонок! Маша шепчет в дверях испуганно:
— Палагея Ивановна… су-рьезная!.. Все озираются тревожно, матушка спешит встретить, отец, с салфеткой, быстро идет в переднюю. Это родная его тетка, «немножко тово», и ее все боятся: всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает: она — «вроде юродная», и ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю и боюсь попасться ей на глаза. Про нее у нас говорят, что «не все у ней дома», и что она «чуть с приглинкой». Столько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок! И все говорят — «хоть и с приглинкой будто, а у‑умная… ну, все-то она к месту, только уж много после все отрывается, и все по ее слову». И, правда, ведь: блаженные-то — все ведь святые были! Приходит она к нам раза два в год, «как на нее накатит», и всегда заявляется, когда вовсе ее не ждут. Так вот, ни с того ни с сего и явится. А если явится — неспроста. Она грузная, ходит тяжелой перевалочкой, в широченном платье, в турецкой шали с желудями и павлиньими «глазками», а на голове черная шелковая «головка», по старинке. Лицо у ней пухлое, большое; глаза большие, серые, строгие, и в них — «тайная премудрость». Говорит всегда грубовато, срыву, но очень складно, без единой запиночки, «так цветным бисером и сыплет», целый вечер может проговорить, и все загадками-прибаутками, а порой и такими, что со стыда сгоришь, — сразу и не понять, надо долго разгадывать премудрость. Потому и боятся ее, что она судьбу видит, Горкин так говорит. Мне кажется, что кто-то ей шепчет, — Ангелы? — она часто склоняет голову набок и будто прислушивается к неслышному никому шепоту — судьбы?..
Сегодня она в лиловом платье и в белой шали, муаровой, очень парадная. Отец целует у ней руку, целует в пухлую щеку, а она ему строго так:
— Приехала тетка с чужого околотка… и не звана, а вот и она!
Всех сразу и смутила. Мне велят приложиться к ручке, а я упираюсь, боюсь: ну-ка она мне скажет что-нибудь непонятное и страшное. Она будто знает, что я думаю про нее, хватает меня за стриженый вихорчик и говорит нараспев, как о. Виктор:
— Рости, хохолок, под самый потолок!
Все ахают, как хорошо да складно, и Маша, глупая, еще тут:
— Как тебе хорошо-то насказала… богатый будешь!
А она ей:
— Что, малинка… готова перинка?
Так все и охнули, а Маша прямо со стыда сгорела, совсем спелая малинка стала: прознала Палагея Ивановна, что Машина свадьба скоро, я даже понял.
Отец спрашивает, как здоровье, приглашает заговеться, а она ему:
— Кому пост, а кому погост!
И глаза возвела на потолок, будто там все прописано.
Так все и отступили, — такие страсти!
Из гостиной она строго проходит в залу, где стол уже в беспорядке, крестится на образ, оглядывает неприглядный стол и тычет пальцем:
— Дорогие гости обсосали жирок с кости, а нашей Палашке — вылизывай чашки!
И не садится. Ее упрашивают, умасливают, и батюшка даже поднялся, из уважения, а Палагея Ивановна села прямиком-гордо, брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей и сижка-то, и пирожка-то, и суп подают, без потрохов уж только, а она кутается шалью натуго, будто ей холодно, и прорекает:
— Невелика синица, напьется и водицы…
И протодьякон стал ласково говорить, расположительно:
— Расскажите, Палагея Ивановна, где бывали, чего видали… слушать вас поучительно…
А она ему:
— Видала во сне — сидит баба на сосне.
Так все и покатились. Протодьякон живот прихватил, присел, да как крякнет!.. — все так и звякнуло. А Палагея Ивановна строго на него:
— А ты бы, дьякон, потише вякал!
Все очень застыдились, а батюшка отошел от греха в сторонку.
Недолго посидела, заторопилась — домой пора. Стали провожать. Отец просит:
— Сам вас на лошадке отвезу.
А она и вымолвила… после только премудрость-то прознали:
— Пора и на паре, с песнями!..
Отец ей:
— И на паре отвезу, тетушка…
А она погладила его по лицу и вымолвила:
— На паре-то на масленой катают.
На масленице как раз и отвезли Палагею Ивановну, с пением «Святый Боже» на Ваганьковское. Не все тогда уразумели в темных словах ее. Вспомнили потом, как она в заговины сказала отцу словечко. Он ей про дела рассказывал, про подряды и про «ледяной дом», а она ему так, жалеючи:
— Надо, надо ледку… горячая голова… остынет.
Голову ему потрогала и поцеловала в лоб. Тогда не вникли в темноту слов ее…
После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что осталось, и обмести по полкам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом и мяткой — запахи мясоедные затомить, а теперь уже повывелось. Только Горкин блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем. Он говорит нараспев молитовку — «воскурю‑у имианы-ладаны… воскурю‑у… исчезает дым и исчезнут… тает воск от лица-огня…» — должно быть, про дух скоромный. И слышу — наверху, в комнатах, — стук и звон! Это миндаль толкут, к Филиповкам молочко готовят. Горкин знает, как мне не терпится, и говорит:
— Ну, воскурили с тобой… ступай-порадуйся напоследок, уж Филиповки на дворе.
Я бегу темными сенями, меня схватывает Василь-Василич, несет в мастерскую, а я брыкаюсь. Становит перед печуркой на стружки, садится передо мной на корточки и сипит:
— Ах, молодой хозяин… кр-расота Господня!.. Заговелся малость… а завтра «ледяной дом» лить будем… а‑хнут!.. Скажи папашеньке… спит, мол, Косой, как стеклышко… ик-ик… — и водочным духом на меня.
Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы: «папашенька подарил… за… поведение!..» Нашаривает гармонью, хочет мне «Матушку-голубошку» сыграть-утешить. Но Горкин ласково говорит:
— Утихомирься, Вася, Филиповки на дворе, гре-эх!..
Василь-Василич так, на него, ладошками, как святых на молитве пишут:
— Ан-дел во плоти!.. Панкра-тыч!.. Пропали без тебя… Отмолит нас Панкратыч… мы все за ним, как… за каменной горой… Скажи папашеньке… от-мо… лит! всех отмолит!
А там молоко толкут! Я бегу темными сенями. В кухне
Марьюшка прибралась, молится Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филиповки… скучно как…
В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет, тусклый-тусклый. Маша сидит на полу, держит на коврике, в коленях, ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком. Медью отзванивает ступка, весело-звонко, выплясывает словно. Матушка ошпаривает миндаль, — будут еще толочь!
Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно, миндальным запахом от нее. Жду, не выпрыгнет ли «счастливчик». Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет: «где тебя, глазастого, носило… все потолкла!» И дает мне на пальце миндальной кашицы в рот. До чего же вкусно и душисто! я облизываю и Маши палец. Прошу у матушки почистить миндалики. Она велит выбирать из миски, с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю с кончика, и молочный, весь новенький миндалик упрыгивает под стол. Подумают, пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики юркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю «счастливчиков», а блюдечко с миндаликами уже отставлено.
— Будет с тебя, начистил.
Я божусь, что это они сами уюркивают… может быть, боятся ступки… — и вот они все, «счастливчики», — я показываю на ладошке.
— Промой и положи.
Маша сует мне в кармашек целую горсть, чистеньких-голеньких, — и ласково щекочет мою ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза — ясные миндали, играют на них синие зрачки-колечки… и губы у ней играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет, такая радостная:
— Ду-сик… Рождество скоро, а там и мясоед… счастье мое миндальное!..
Я знаю: она рада, что скоро ее свадьба. И повторяю в уме: «счастье мое миндальное…»
Матушка велит мне ложиться спать. А выжимки-то?
— Завтра. И так, небось, скоро затошнит.
Я иду попрощаться с отцом.
В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я подхожу на цыпочках. Он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбудить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я прочитываю заглавие — «Ледяной Дом». Потому и строим «ледяной дом»?
В окнах, за разноцветными ширмочками, искрится от мороза… — звездочки? Взбираюсь на стол, грызу миндалик, разглядываю гусиное перо, дедушкино еще… гусиную лапку вижу, Палагею Ивановну…
Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато… потолок валится на меня с круглой зеленой клеткой, где живет невиданный никогда жавороночек… — и вижу лицо отца. Я на руках у него… он меня тискает, я обнимаю его шею.. — какая она горячая!..
— Заснул? на самом «Ледяном Доме»? не замерз, а? И что ты такой душистый… совсем миндальный!..
Я разжимаю ладошку и показываю миндалики. Он вбирает губами с моей ладошки, весело так похрупывает. Теперь и он миндальный. И отдается радостное, оставшееся во мне, «счастье мое миндальное!..»
Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу, слышу миндальный запах…
«Счастье мое миндальное!..»
Рождество
Рождество уже засветилось, как под Введенье запели на всенощной «Христос рождается, славите; Христос с небес, срящите..» — так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горкин меня загодя укреплял, а то не терпелось мне, скорей бы Рождество приходило, все говорил вразумительно «нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет». Говорил, бывало:
— Ты вон, летось, морожена покупал… и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большою радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приуготовляемся, издаля приглядываемся, — вон оно, Рождество-то, уж светится. И радости больше оттого.
И это сущая правда. Стали на крылосе петь, сразу и зажглось паникадило, — уж светится будто Рождество. Иду ото всенощной, снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет, весело так похрустывает — «Христос с небес, срящите…» — такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и промерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, — веселый, морозный хруст. Только бы Николина Дня дождаться, а там и рукой подать; скатишься, как под горку, на Рождество.
«Вот и пришли Варвары», — Горкин так говорит, — Василь-Василичу нашему на муку. В деревне у него на Николу престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжки. Отец посмеивается: «теперь уж варвариться придется!» С неделю похороводится: три дни подряд празднует трояк-праздник: Варвару, Савву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василь-Василич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная: Варвара-Савва мостит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество — «как стеклышко», чист душой: горячее дело, публику с гор катать. Разве вот только «на стенке» отличится, — на третий день Рождества, такой порядок, от старины; бромлейцы, заводские с чугунного завода Бромлея, с Серединки, неподалеку от нас, на той же Калужской улице, «стенкой» пойдут на наших, в кулачный бой, и большое побоище бывает; сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто дозволяет, и будошники не разгоняют: с морозу людям погреться тоже надо. А у Василь-Василича кровь такая, горячая: смотрит-смотрит — и ввяжется. Ну, с купцами потом и празднует победу-одоление.
Как увидишь, — на Конную площадь обозы потянулись, — скоро и Рождество. Всякую живность везут, со всей России: свиней, поросят, гусей… — на весь мясоед, мороженых, пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе, все запасаются помногу, — дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики, с Житной, сами впрягаются в сани — народ потешить для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а две-три тушки свиных необходимо, да черных поросят, с кашей жарить, десятка три, да белых, на заливное молошничков, два десятка, чтобы до заговин хватило, да индеек-гусей-кур-уток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей-тетерок, да… — трое саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков.
В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зеленым бархатом, с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змеи запускать и голубей гонять. Приходит, и давай хаять саночки: девчонкам только на них кататься, разве санки бывают с бахромой! Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повез по саду, в сугробе увязил и вывалил.
— Вот дак са-ночки твои!.. — говорит, — и плюнул на мои саночки.
Сердце у меня и заскучало. И стал нахваливать свои, лубяные: на них и в далекую дорогу можно, и сенца можно постелить, и товар возить: вот, на Конную-то за поросятами ехать! Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие, у щепника нашего на рынке выставлены такие же у лавки. Посадил меня и по саду лихо прокатил.
Вот это дак са-ночки! — говорит. Отошел к воротам, и кричит: — Хочешь, так уж и быть, променяю приятельски, только ты мне в придачу чего-нибудь… хоть три копейки, а я тебе гайку подарю, змеи чикать.
Я обрадовался, дал ему саночки и три копейки, а он мне гайку — змеи чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил:
— Откуда у те такие, лутошные?
Как узнал все дело, так и ахнул:
— Ах, ты, самоуправник! да тебя, простота, он, лукавый, вкруг пальца обернул, папашенька-то чего скажет!.. да евошним-то три гривенника — красная цена, куклу возить девчонкам, а ты, дурачок… идем со мной.
Пошли мы с ним к Леньке на двор, а уж он с горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. А отец его, печник знакомый и говорит:
— А ваш-то чего смотрел… так дураков и учат.
Горкин сказал ему чего-то от Писания, он и проникся, Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину:
А за поросятами на Конную, как же я?..
Поставим, говорит, корзиночку, и повезешь.
Близится Рождество: матушка велит принести из амбара «паука». Это высокий такой шест, и круглая на нем щетка, будто шапка: обметать паутину из углов. Два раза в году «паука» приносят: на Рождество и на Пасху. Смотрю на «паука» и думаю: «бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество». И все радуются. И двери наши, — моют их теперь к Празднику, — и медные их ручки, чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества: в Сочельник развяжут их, они и засияют, радостные, для Праздника. По всему дому идет суетливая уборка.
Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг, плюхается с размаху на диван, будто приехал в гости, кричит мне важно — «подать мне чаю-шоколаду!» — и строит рожи, гостя так представляет важного. Горкин — и тот на него смеется, на что уж строгий. «Белят» ризы на образах: чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят «праздничные», рождественские, лампадки, белые и голубые, в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, — и это напоминает чистый, морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками. Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, — запахом Праздника. В гостиной стелят «рождественский» ковер, — пышные голубые розы на белом поле, — морозное будто, снежное. А на Пасху — пунсовые розы полагаются, на алом.
На Конной, — ей и конца не видно, — где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом, стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, — завалено народом, черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый, в оранжевом вонючем полушубке, взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками, самих бы не задавили только, — чистое светопреставление. Антон несет меня на руках, как на «постном рынке». Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с Антипушкой, для провизии, — целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, — только поплясывай. И все довольны, веселые, для Рождества стараются поглатывают-жгутся горячий сбитень. Только и слышишь — перекликаются:
— Много ль поросят-то закупаешь?
— Много — не много, а штук пяток надо бы, для Праздника.
Тороговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят: живые камушки.
— Звонкие-молочшые!.. не поросятки — а‑нделы!..
Горкин пеняет тамбовскому, — «рыжая борода»: не годится так, ангелы — святое слово. Мужик смеется:
— Я и тебя, милый, а‑нделом назову… у меня ласковей слова нет. Не черным словом я, — а‑ндельским!..
— Дворянские самые индюшки!.. княжьего роду, пензицкого заводу!..
Горкин говорит, — давно торгу такого не видал, боле тыщи подвод нагнали, — слыхано ли когда! «черняк» — восемь копеек фунт?! «беляк» — одиннадцать! дешевле паренной репы. А потому: хлеба уродилось после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин; сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в Наливках, в енотовой огромной шубе, слон-слоном, за спиной мешок, полон: немало ему надо, семья великая.
Третий мешок набил, — басит с морозу дьякон, — гуська одного с дюжинку, а поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня…
А Горкин на ухо мне:
— Это он так, для хорошего разговору… он для души старается, в богадельню жертвует. Вот и папашенька, записочку сам дал, велит на четвертной накупить, по бедным семьям. И втайне чтобы, мне только препоручает, а я те поучение… выростешь — и попомнишь. Только никому не сказывай.
Встречаем и Домну Панферовну, замотана шалями, гора горой, обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела, уточек она любит, пожирней. Смотрим — и барин Энтальцев тут, совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит важно так, — «рябчиков покупаю, „можжевельничков“, тонкий вкус! там, на углу, пятиалтынный пара!». Мы не верим: у него и гривенничка наищешься. Подходим к рябчикам: полон-то воз, вороха пестрого перья. Оказывается, «можжевельнички» — четвертак пара.
— Терся тут, у моего воза, какой-то хлюст, нос насандален… — говорит рябчичник, — давал пятиалтынный за парочку, глаза мне отвел… а люди видали — стащил будто пары две под свою пальтишку… разве тут доглядишь!..
Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый, барин прогорелый. Ради такого Праздника и не обижаются на жуликов: «что волку в зубы — Егорий дал!» Только один скандал всего и видали, как поймал мужик паренька с гусем, выхватил у него гуся, да в нос ему мерзлым горлом гусиным: «разговейся, разговейся!..» Потыкал-потыкал — да и плюнул, связываться не время. А свинорубы и внимание не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски, с фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой Конной тянутся, как поленницы, как груды бревен-обрубков: мороженая свинина сложена рядами, запорошило снежком розовые разводы срезов: окорока уже пущены в засол, до Пасхи.
Кричат: «тройку пропущай, задавим!» Народ смеется: пакетчики это с Житной, везут на себе сани, полным-полны, а на груде мороженою мяса сидит-покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, к груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздями, — одна гроздь напереду, другая сзади, — растаскивают великий торг. И даже бутошник наш поросенка тащит и пару кур, и знакомый пожарный с Якиманской части, и звонарь от Казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то, все. Душа — душой, а и мамона требует своего, для Праздника.
В Сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стоны закусочных тарелок, «рождественских», в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти «очищенной», — подносить народу, как поздравлять с Праздником придут. В зале — парадный стол, еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее, не дотронуться, — тоже стол, карточный-раскрытый, — закусочный: завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли: она, мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всеношной ее впустят.
Отец в кабинете: принесли выручку из бань, с ледяных катков и портомоен. Я слышу знакомое почокиванье медяков и тонкий позвонец серебреца: это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки; потом раскладывает на записочки — каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки и кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василь-Василича, велит заложить беговые санки и развести по углам-подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в рождество.
У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет Крест. Скоро пойдем ко всенощной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу, — что-то побаливает она у него, с мороза, что ли. Спрашивает меня:
— В Писании писано: «и явилась в небе многая сонма Ангелов…», кому явилась?
Я знаю, про что он говорит: это пастухам ангелы явились и воспели — «Слава в вышних Богу…».
— А почему пастухам явились? Вот и не знаешь. В училищу будешь поступать, в имназюю… папашенька говорил намедни… у Храма Христа Спасителя та училища, имназюя, красный дом большенный, чугунные ворота. Там те батюшка и вспросит, а ты и не знаешь. А он стро-гой, отец благочинный нашего сорока, протоерей Копьев, от Спаса в Наливках… он те и погонит-скажет — «ступай, доучивайся!» — скажет. А потому, мол, скажи… Про это мне вразумление от отца духовного было, он все мне растолковал, о. Валентин, в Успенском соборе, в Кремле, у‑че-ный!.. проповеди как говорит!.. Запомни его — о. Валентин, Анфитиятров. Сказал: в стихе поется церковном: «истинного возвещают Па-стыря!..» Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то?.. — «Аз есьм Пастырь Добрый…». Вот пастухам первым потому и было возвещено. А потом уж и волхвам-мудрецам было возвещено: знайте, мол! А без Него и мудрости не будет. Вот ты и помни.
Идем ко всенощной.
Горкин раньше еще ушел, у свещного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Саня
Юрцов, заика, который у Сергия-Троицы послушником: отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча, для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как Ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. А они поют ласково так и радостно. Отец говорит:
— Ах, вы, божьи люди!..
Клавнюша сказал — «все божии» — и за руку нас остановил:
— Вы прислушайте, прислушайте… как все играет!.. и на земле, и на небеси!..
А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие звезды, — и гу-ул… все будто небо звенит-гудит, — колокола поют. До того радостно поют, будто вся тварь играет: и дым над нами, со всех домов, и звезды в дыму, играют, сияние от них веселое. И говорит еще:
— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несет с земли… играет ка-ким столбом!..
И Саня-заика стал за ним говорить:
— И‑и-ч… грает… не-бо и зе-зе-земля играет…
И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтобы взяли:
— Дадите там, кому хотите. Ах, вы, божьи дети… молитвенники вы за нас, грешных… простосерды вы. А у нас радость, к Празднику: доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, Ломшачка, к смерти приговорил, неделю ему только оставлял жить… дескать, от сердца помрет… уж и дышать переставал Ломшачок! а вот, выправился, выписали его намедни из больницы. Покажет себя сейчас, как «с нами Бог» грянет!..
Так мы возрадовались! а Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел.
В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:
— А Ломшачок-то наш, гляди-ты… воя он, горло-то потирает, на крылосе… это, значит, готовится, сейчас «С нами Бог» вовсю запустит.
Вся церковь воссияла, — все паникадилы загорелись. Смотрю: разинул Ломшаков рот, назад головой подался… — все так и замерли, ждут. И так ах-нуло — «С нами Бог»… — как громом, так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылке. Горкин и молится, и мне шепчет:
— Воскрес из мертвых наш Ломшачок… — «разумейте, языцы и покоряйтеся… яко с нами Бог!..».
И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от радости. Такого пения, говорили, еще и не слыхали: будто все Херувимы-Серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума…» — такое во мне радостное стало… и я будто увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и волхвов… и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал:
— А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света-разума, а тьма языческая!..
И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал… его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, — «припадочный он», — говорили-жалели все.
Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у басейны, и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, — «Рождественнская» называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы, и будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет.
Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, в фонаре, от пожара, не дай-то Бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю:
— Знаешь, Антипушка, нонче вся тварь играет, Христос родился.
А он говорит — «а как же, знаю… вот и лампадочку затеплил…». И правда: не спят лошадки, копытцами перебирают.
— Они еще лучше нашего чуют, — говорит Антипушка, — как заслышали благовест, ко всенощной… ухи навострили, все слушали.
Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая, из пшенички, угостил нас — святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчитали, и как Ангелы пели пастырям, а Звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь.
Горкин и говорит, — будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней:
— Ах, вы, ласковые… Божьи люди!..
А Клавнюша опять сказал, как у басейны:
— Все Божии.
В. О. Зеелеру
Ледяной дом
По Горкину и вышло: и на Введенье не было ростепели, а еще пуще мороз. Все окошки обледенели, а воробьи на брюшко припадали, лапки не отморозить бы. Говорится — «Введенье ломает леденье», а не всегда, тайну премудрости не прозришь. И Брюс-колдун в «Крестном Календаре» грозился, что реки будто вскрываться станут, — и по его не вышло. А в старицу бывало. Горкин сказывал, — раз до самого до Введения такая теплынь стояла, что черемуха зацвела. У Бога всего много, не дознаться. А Панкратыч наш дознавался, сподобился. Всего-то тоже не угадаешь. Думали вот — до Казанской Машину свадьбу справить, — она с Денисом все-таки матушку упросила не откладывать за Святки, до слез просила, — а пришлось отложить за Святки: такой нарыв у ней на губе нарвал, все даже лицо перекосило, куда такую уродину к венцу вести. Гришка смеялся все: «а не целуйся до сроку, он тебе усом и наколол!».
Отец оттепели боится: начнем «ледяной дом» смораживать — все и пропадет, выйдет большой скандал, И Горкин все беспокоится: ввязались не в свое дело, а все скорняк заварил. А скорняк обижается, резонит:
— Я только им книжку показал, как в Питере «ледяной дом» Царица велела выстроить, и живого хохла там залили, он и обледенел, как столб. Сергей Иваныч и загорячились: «построю „ледяной дом“, публику удивим!»
Василь-Василич — как угорелый, и Денис с ним мудрует, а толком никто не знает, как «ледяной дом» строить. Горкин чего-чего не знает только, и то не может, дело-то непривычное. Спрашиваю его — «а как же зайчик-то… ледяную избушку, мог?» А он на меня серчает:
— Раззвонили на всю Москву, и в «Ведомостях» пропечатали, а ничего не ладится, с чего браться.
— А зайчик-то… мог?
А он — «зайчик-зайчик…» — и плюнул в снег. Никто и за портомойнями не глядит, подручные выручку воруют. Горкину пришлось ездить — досматривать.
И только в разговору, что про «ледяной дом». Василь-Василичу праздник, по трактирам все дознает, у самых дошлых. И дошлые ничего не могут.
Повезли лед с Москва-реки, а он бьется, силы-то не набрал. Стали в Зоологическим саду прудовой пилить, а он под пилой крошится, не дерево. Даже сам архитектор отказался: «ни за какие тыщи, тут с вами опозоришься!» Уж Василь-Сергеич взялся, с одной рукой, который в банях расписывал. План-то нарисовал, а как выводить — не знает. Все мы и приуныли, один Василь-Василич куражится. Прибежит к ночи, весь обмерзлый, борода в сосульках, и лохмы совсем стеклянные, и все-то ухает, манеру такую взял:
— Ух ты‑ы!.. такого навертим — ахнут!.. Скорняк и посмеялся:
— Поставить тебя заместо того хохла — вот и ахнут!..
В кабинете — «сбор всех частей», как про большие пожары говорится: отец советуется, как быть. Горкин — «первая голова». Василь-Василич, старичок Василь-Сергеич, один рукав у него болтается, и еще старый штукатур Пармен, мудреющий. Василь-Василич чуть на ногах стоит, от его полушубка кисло пахнет, под валенками мокро от сосулек. Отец сидит скучный, подперев голову, глядит в план.
— Ну, чего ты мне ерунду с загогулинами пустил?.. — говорит он безрукому, — вазы на стенах, какие-то шары в окнах… столбы винтами?.. это тебе не штукатурка, а лед!.. Обрадовался…. за архитектора его взяли!..
— Я так прикидываю‑с… ежели в формы вылить‑с?.. — опасливо говорит безрукий, а Василь-Василич перебивает криком:
— Будь-п-койны‑с, уж понатужимся!.. литейщиков от Брамля подрядим, вроде как из чугуна выльем‑с!.. а‑хнут‑с!..
Отец кажет ему кулак.
— Это тебе не гиря, не болванка… выльем! Чего ты мне ерунды с маслом навертел?!. — кричит он на робеющего безрукого, — сдержат твои винты крыльцо?.. ледяной вес прикинь! не дерево тебе, лед хрупкий!.. Навалит народу…да, упаси Бог, рухнет… сколько народу передавим!.. Генерал-губернатор, говорят, на открытие обещал прибыть… как раззвонили, черти!..
— Оно и без звону раззвонилось, дозвольте досказать‑с… — пробует говорить Василь-Василич, а язык и не слушается, с морозу. — Как показали все планты обер-пальциместеру… утвердите чудеса, все из леду!.. Говорит… «обязательно утвержду… невидано никогда… самому князю Долгорукову доложу про ваши чу… чудеса!.. всю Москву удивите, а‑хнут!..»
— По башке трахнут. Ты, Пармен, что скажешь? как такую загогулину изо льду точить?!.
Пармен — важный, седая борода до пояса, весь лысый. Первый по Москве штукатур, во дворцах потолки лепил.
— Не лить, не точить, а по-нашему надоть, лепитьвыглаживать. Слепили карнизы, чуть мокренько — тяни правилками, по хворме… лекальчиками пройтить. Ну, чего, может, и отлить придется, с умом вообразить. Несвычное дело, а ежели с умом — можно.
— Будь-п-койны‑с, — кричит Василь-Василич, — уж понатужимся, все облепортуем! С нашими-то робятами… вся Москва ахнет‑с!.. Все ночи надумываю-тужусь… у‑ухх-ты‑ы!..
— Пошел, тужься там, на версту от тебя несет. Как какое дело сурьезное, так он… черт его разберет!.. — шлепает отец пятерней по плану.
Горкин все головой покачивает, бородку тянет: не любит он черных слов, даже в лице болезное у него.
— И за что‑с?!. — вскрикивает, как в ужасе, Василь— Василич. — Дни-ночи мечусь, весь смерзлый, чистая калмыжка!.. по всем трактирам с самыми дошлыми добиваюсь!..
— Допиваюсь! — кричит отец. — С ими нельзя без энтова… через энтово и дознаюсь… нигде таких мастеров, окроме как запойные, злющие до энтово… уж судьба-планида так… выводит из себе… ух-ты, какие мастера!.. Доверьтесь только, выведем так что… уххх-ты‑ы!..
Отец думает над планом, свешивается его хохол.
— А ты, Горка… как по-твоему? не ндравится тебе, вижу?
— Понятно, дело оно несвычное, а, глядится, Пармен верно сказывает, лепить надо. Стены в щитах лепить, опосле чуток пролить, окошечки прорежем, а там и загогулины, в отделку. Балаган из тесу над «домом» взвошим, морозу не допущать… чтобы те ни морозу, ни тепла, как карнизы-то тянуть станут… а то-не дасть мороз, закалит.
— Так… — говорит отец, веселей, — и не по душе тебе, а дело говоришь. Значит, сперва снег маслить, потом подмораживать… так.
— Осени-ли!.. Господи… осенили!.. — вскрикивает Василь— Василич. — Ну, теперича а‑хнем!..
— Денис просится, доложиться… — просовывается в дверь Маша.
— Ты тут еще, с Дениской… пошла! — машет на нее Горкин.
— Да по ледяному делу, говорит. Очень требует, с Андрюшкой они чего-то знают!..
— Зови… — велит отец.
Входит Денис, в белой полушубке и белых валенках, серьга в ухе, усы закручены, глаз веселый, — совсем жених. За ним шустрый, отрепанный Андрюшка, крестник Горкина, — святого Голубка на сень для Царицы Небесной из лучинок сделал, на радость всем. Горкин зовет его — «золотые руки», а то Ондрейка, а если поласкивей — «мошенник». За виски иной раз поучит — «не учись пьянствовать».
Денис докладывает, что дознались они с Андрюшкой, в три недели «ледяной дом» спроворят, какой угодно, и загогулины, и даже решетки могут, чисто из хрусталя. Отец смотрит, не пьяны ли. Нет, Денис стоит твердо на ногах, у Андрюшки блестят глаза.
— Ври дальше…
— Зачем врать, можете поглядеть. Докладывай, Андрюшка, ты первый-то…
Язык у Андрюшки — «язва», — Горкин говорит, на том свете его обязательно горячую сковороду лизать заставят. Но тут он много не говорит.
— Плевое дело, балясины эти, столбы-винты. Можете глядеть, как Бушуя обработали, водой полили… стал ледяной Бушуй!
— Ка-ак, Бушуя обработали?!. — вскрикивают и отец, и Горкин, — живого Бушуя залили!.. — Язва ты, озорник!..
А я вспоминаю про залитого в Питере хохла.
— Да что вы‑с!.. — ухмыляется Денис, — из снегу слепил Андрюшка, на глаз прикидывали с ним, а потом водичкой подмаслили.
— Держкий чтоб снег был, как в ростепель, — говорит
Андрюшка. — Что похитрей надо — мы с Денисом, а карнизы тянуть — штукатуров поставите. Я в деревне и петухов лепил, перушки видать было!.. — сплевывает Андрюшка на паркет, — а это пустяки, загогулины. Только с печкой надо, под балаганом…
— В одно слово с Михал Пан..! — встревается Василь-Василич.
— …мороза не впущать. Где терпугом, где правилкой, водичкой подмасливать, а к ночи мороз впущать. Да вы извольте Бушуя поглядеть…
Идем с фонарем на двор. В холодной прачешной сидит на полу… Бушуй!..
— Ж‑живой!.. ах, су-кины коты… ж‑живой!.. чуть не лает!.. — вскрикивает Василь-Василич. Ну, совсем Бушуйка! и лохматый, и на глазах мохры, и будто смотрят глаза, блестят.
Впервые тогда явилось передо мною — чудо. Потом — я познал его.
— Ты? — удивленный, спрашивает отец Андрюшку, указывая на ледяного Бушуя.
Андрюшка молчит, ходит вокруг Бушуя. Отец дает ему «зелененькую», три рубля, «за мастерство». Андрюшка, мотнув головой, пинает вдруг сапогом Бушуя, и тот разваливается на комья. Мы ахаем. Горкин кричит:
— Ах, ты, язва… голова вертячая, озорник-мошенник!.. Андрюшка ему смеется:
— Тебя, погоди, сваляю, крестный, тогда не пхну. В трактир, что ль, пойти-погреться.
В Зоологическом саду, на Пресне, где наши ледяные горы, кипит работа. Меня не берут туда. Горкин говорит, что не на что там глядеть покуда, а как будет готово — поедем вместе.
На Александра Невского, 23 числа ноября, меня посылают поздравить крестного с Ангелом, а вечером старшие поедут в гости. Я туда не люблю ходить: там гордецы-богачи, и крестный грубый, глаза у него, «как у людоеда», огромный, черный, идет — пол от него дрожит. Скажешь ему стишки, а он и не взглянет даже, только буркнет — «ага… ладно, ступай, там тебе пирога дадут», — и сунет рваный рублик. И рублика я боюсь: «грешный» он. Так и говорят все: «кашинские деньги сиротскими слезами… политы… Кашины — „тискотеры“, дерут с живого и с мертвого, от слез на пороге мокро».
Я иду с Горкиным. Дорога веселая, через замерзшую Москва-реку. Идем по тропинке в снегу, а под нами река, не слышно только. Вольно кругом, как в поле, и кажется почему-то, что я совсем-совсем маленький, и Горкин маленький. В черных полыньях чего-то вороны делают. Ну, будто в деревне мы. Я иду и шепчу стишки, дома велели выучить:
Подарю я вам два слова:
Печаль никогда,
А радость навсегда.
Горкин говорит:
— Ничего не поделаешь, — крестный, уважить надо. И папашенька ему должен под вексельки… как крымские бани строил, одолжал у него деньжонок, под какую же лихву!.. разорить вас может. Не люблю и я к ним ходить… И богатый дом, а сидеть холодно.
— Как «ледяной», да?..
Он смеется:
— Уж и затейник ты… «ледяной»! В «ледяном»-то, пожалуй, потеплее будет.
Вот и большой белый дом, в тупичке, как раз против Зачатиевского монастыря. Дом во дворе, в глубине. Сквозные железные ворота. У ворот и на большом дворе много саней богатых, с толстыми кучерами, важными. Лошади строгие огромные и будто на нас косятся. И кучера косятся, будто мы милостыньку пришли просить. Важный дворник водит во дворе маленькую лошадку — «пони»: купили ее недавно Дане, младшему сынку. Идем с черного хода: в прошедшем году в парадное не пустили нас. На пороге мокро, — от слез, пожалуй. В огромной кухне белые повара с ножами, пахнет осетриной и раками, так вкусно.
— Иди, голубок, не бойся… — поталкивает меня Горкин на лестницу.
Нарядная горничная велит нам обождать в передней. Пробегает Данька, дерг меня за башлык, за маковку, и свалил.
— Ишь, озорник… такой же живоглот выростет… — шепчет Горкин, и кажется мне, будто и он боится.
Видно, как в богатой столовой накрывают на стол официанты. На всех окнах наставлены богатые пироги в картонках и куличи. Проходит огромный крестный, говорит Горкину:
— Жив еще, старый хрыч? А твой умный, в балушки все?.. ледяную избушку выдумал?..
Горкин смиренно кланяется — «воля хозяйская», — говорит, вздыхая, и поздравляет с Ангелом. Крестный смеется страшными желтыми зубами. И кажется мне, что этими зубами он и сдирает «с живого — с мертвого».
— Покормят тебя на кухне, — велит он Горкину, а мне — все то же: «ага…. ладно, ступай, там тебе пирога дадут…» — и тычет мне грязный бумажный рублик, которого я боюсь.
— Стишок-то кресенькому скажи… — поталкивает меня Горкин, но крестный уже ушел.
Опять пробегает Данька и тащит меня за курточку в «классную».
В большой «классной» стоит на столе голубой глобус, у выкрашенной голубой стены — черная доска на ножках и большие счеты на станочке. Я стискиваю губы, чтобы не заплакать: Данька оборвал крендель-шнурочек на моей новой курточке. Я смотрю на глобус, читаю на нем — «Африка» и в тоске думаю: «скорей бы уж пирога давали, тогда — домой». Данька толкает меня и кричит: «я сильней тебя!.. на левую выходи!..»
— Он маленький, ты на целую голову его выше… нельзя обижать малыша… — говорит вошедшая гувернантка, строгая, в пенсне. Она говорит еще что-то, должно быть, по-немецки и велит нам обоим сесть на скамейку перед черным столом, косым, как горка: — А вот кто из вас лучше просклоняет, погляжу я?.. ну, кто отличится?..
— Я!.. — кричит Данька, задирает ноги и толкает меня в бок локтем.
Он очень похож на крестного, такой же черный и зубастый, — я и его боюсь. Гувернантка дает нам по листу бумаги и велит просклонять, что она написала на доске: «гнилое болото». Больше полувека прошло, а я все помню «гнилое болото» это. Пишем вперегонки. Данька показывает свой лист — «готово»! Гувернантка подчеркивает у него ошибки красными чернилками, весь-то лист у него искрасила! А у меня — ни одной-то ошибочки, слава Богу! Она ласково гладит меня по головне, говорит — «молодец». Данька схватывает мой лист и рвет. Потом начинает хвастать, что у него есть «пони», высокие сапоги и плетка. Входит крестный и жует страшными зубами:
— Ну, сказывай стишки.
Я говорю и гляжу ему на ноги, огромные, как у людоеда. Он крякает:
— Ага… «радость завсегда»? — ладно. А ты… про «спинки» ну-ка!.. — велит он Даньке.
Данька говорит знакомое мне — «Где гнутся над омутом лозы…». Коверкает нарочно — «ро-зы», ломается… — «нам так хорошо и тепло, у нас березовые спинки, а крылышки точно стекло».
— Ха-ха-ха‑а..! бе-ре-зовые!.. — страшно хохочет крестный и уходит.
— Да «би-рю-зовые» же!.. — кричит покрасневшая гувернантка — сколько объясняла!.. из би-рю-зы!..
А Данька дразнится языком — «зы-зы-зы!». Горничная приносит мне кусок пирога с рисом-рыбой, семги и лимонного желе, все на одной тарелке. Потом мне дают в платочке парочку американских орехов, мармеладцу и крымское яблоко и проводят от собачонки в кухню.
Горкин торопливо говорит, шепотком — «свалили с души, пойдем». Нагоняет Данька и кричит дворнику — «Васька, выведи Маштачка!» — похвастаться. Горкин меня торопит:
— Ну, чего не видал, идем… не завиствуй, у нас с тобой Кавказка, за свои куплена… а тут и кусок в глотку нейдет.
Идем — не оглядываемся даже.
Отец веселый, с «ледяным домом» ладится. Хоть бы глазком взглянуть. Горкин говорит — «на Рождество раскроют, а теперь все под балаганом, нечего и смотреть, — снег да доски». А отец говорил, — «не дом, а дворец хрустальный!».
Дня за два до Рождества, Горкин манит меня и шепчет:
— Иди скорей, в столярной «орла» собрали, а то увезет Ондрейка.
В пустой столярной только папашенька с Андрюшкой. У стенки стоит «орел» — самый-то форменный, как вот на пятаке на медном! и крылья, и главки, только в лапах ни «скиптра», ни «шара-державы» нет, нет и на главках коронок: изо льда отольют потом. Больше меня «орел», крылья у него пушистые, сквозные, из лучинок, будто из воска вылиты. А там ледяной весь будет. Андрюшка никому не показывает «орла», только отцу да нам с Горкиным. Горкин хвалит Андрюшку:
— Ну, и мошенник-затейник ты…
Положили «орла» на щит в сани и повезли в Зоологический сад.
Вот уж и второй день Рождества, а меня не везут и не везут. Вот уж и вечер скоро, душа изныла, и отца дома нет. Ничего и не будет? Горкин утешает, что папашенька так распорядились: вечером, при огнях смотреть. Прибежал, высуня язык, Андрюшка, крикнул Горкину на дворе:
— Ехать велено скорей!.. уж и наверте-ли!.. на-роду ломится!..
И покатил на извозчике, без шапки, — совсем сбесился. Горкин ему — «постой-погоди!..» — ку-да тут. И повезли нас в Зоологический. Горкин со мной на беговых саночках поехал.
Но что я помню?..
Синие сумерки, сугробы, толпится народ у входа. Горкин ведет меня за руку на пруд, и я уж не засматриваюсь на клетки с зайчиками и белками. Катаются на коньках, под флагами на высоких шестах, весело трубят медные трубы музыки. По берегам черно от народа. А где же «ледяной дом»? Кричат на народ парадно одетые квартальные, будто новенькие они, — «не ломись!». Ждут самого — генерал-губернатора, князя Долгорукова. У теплушки катка Василь-Василич, коньки почему-то подвязал. — «Ух-ты‑ы!..» — кричит он нам, ведет по льду и тянет по лесенке на помост. Я вижу отца, матушку, сестер, Колю, крестного в тяжелой шубе. Да где же «ледяной дом»?!.
На темно-синем небе, где уже видны звездочки, — темные-темные деревья: «ледяной дом» там, говорят, под ними. Совсем ничего не видно, тускло что-то отблескивает, только. В народе кричат — «приехал!.. сам приехал!.. квартальные побежали… сейчас запущать будут!..». Что запущать? Кричат — «к ракетам побежали молодчики!..».
Вижу — отец бежит, без шапки, кричит — «стой, я первую!..». Сердце во мне стучит и замирает… — вижу: дрожит в темных деревьях огонек, мигает… шипучая ракета взвивается в черное небо золотой веревкой, высоко-высоко… остановилась, прищелкнула… — и потекли с высоты на нас золотым дождем потухающие золотые струи. Музыка загремела «Боже Царя храни». Вспыхнули новые ракеты, заюлили… — и вот, в бенгальском огне, зеленом и голубом, холодном, выблескивая льдисто из черноты, стал объявляться снизу, загораться в глуби огнями, прозрачный, легкий, невиданный… Ледяной Дом-Дворец. В небо взвились ракеты, озарили бенгальские огни, и загремело раскатами — ура-а-а‑а!.. Да разве расскажешь это!..
Помню — струящиеся столбы, витые, сверкающие, как бриллианты… ледяного — хрустального Орла над «Домом», блистательного, до ослепления… слепящие льдистые шары, будто на воздухе, льдисто-пылающие вазы, хрустальные решетки по карнизам… окна во льду, фестонами, вольный раскат подъезда… — матово-млечно-льдистое, в хладно-струящемся блеске из хрусталей… Стены Дворца, прозрачные, светят хрустальным блеском, зеленым, и голубым, и розовым… — от где-то сокрытых лампионов… — разве расскажешь это!
Нахожу слабые слова, смутно ловлю из далей ускользающий свет… — хрустальный, льдистый… А тогда… — это был свет живой, кристально-чистый — свет радостного детства. Помню, Горкин говаривал:
— Ну, будто вот как в сказке… Василиса-Премудрая, за одну ночь хрустальный дворец построила. Так и мы… папашенька душу порадовал, напоследок.
Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный и ледяной. Помню — что-то во льду, пунцовое… — это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша, и на ней кот дремал, ледяной, прозрачный. Столик помню, с залитыми в нем картами… стол, с закусками, изо льда… Ледяную постель, прозрачную, ледяные на ней подушки… и все светилось, — сияли шипящим светом голубые огни бенгальские. Раскатывалось ура-а‑а, гремели трубы.
Отец повез нас ужинать в «Большой Московский», пили шампанское, ура кричали…
Рассказывал мне Горкин:
— Уж бы-ло торжество!.. Всех папашенька наградил, так уж наградил!.. От «ледяного-то дома» ни копеечки ему прибытка не вышло, живой убыток. Душеньку зато потешил. И в «Ведомостях» печатали, славили. Генерал-губернатор уж так был доволен, руку все пожимал папашеньке, так-то благодарил!.. А еще чего вышло-то, начудил как Василь-Василичь наш!.. Значит, поразошлись, огни потушили, собрал он в мешочки выручку, медь-серебро, а бумажки в сумку к себе. Повез я мешочки на извозчике с Денисом. Ондрейка-то? Сплоховал Ондрейка, Глухой на простянках его повез домой, в доску купцы споили. Ну, хорошо… Онтона к Василь-Василичу я приставил, оберегать. А он все на коньках крутился, душу разгуливал, с торжества. Хвать… — про-пал наш Василь-Василич! Искали-искали — пропал. Пропал и пропал. И ко зверям ходили глядеть… видали-сказывали — он к медведям добивался все, чего уж ему в голову вошло?.. Любил он их, правда… медведей-то, шибко уважал… все, бывало, ситничка купит им, порадовать. Земляками звал… с лесной мы стороны с ним, костромские. И там его нет, и медведи-то спать полегли. И у слона нет. Да уж не в «Доме» ли, в ледяном?.. Пошли с фонариком, а он там! Там. На лежанке на ледяной лежит, спит-храпит! Продавил лежанку — и спит-храпит. И коньки на ногах, примерзли. Ну, растолкали его… и сумка в головах у него, с деньгами, натуго, тыщ пять. «Домой пора, Василь-Василич… замерзнешь!..» — зовут его. А он не подается. — «Только, говорит, угрелся, а вы меня… не жалаю!..» Обиделся. Насилу его выволокли, тяжелый он. Уж и смеху было! Ему — «замерзнешь, Вася…» — а он: «тепло мне… уж так-то, говорит, те-пло‑о!» Душа, значит, разомлела. Горячий человек, душевный.
Крестопоклонная
В субботу третьей недели Великого Поста у нас выпекаются «кресты»: подходит «Крестопоклонная».
«Кресты» — особенное печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое; где лежат поперечинки «креста» — вдавлены малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали, еще до прабабушки Устиньи — в утешение для поста. Горкин так наставлял меня:
— Православная наша вера, русская… она, милок, самая хорошая, веселая! и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость.
И это сущая правда. Хоть тебе и Великий Пост, а все-таки облегчение для души, «кресты»-то. Только при прабабушке Устинье изюмины в печали, а теперь веселые малинки.
«Крестопоклонная» — неделя священная, строгий пост, какой-то особенный, — «су-губый», — Горкин так говорит, по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоядении пребывать, а по слабости облегчение дается: в середу-пятницу будем вкушать без масла, — гороховая похлебка да винегрет, а в другие дни, которые «пестрые»,— поблажка: можно икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливно-изюмным соусом, с шепталкой, печеный картофель в сольце — а на заедку всегда «кресты»: помни «Крестопоклонную».
«Кресты» делает Марьюшка с молитвой, ласково приговаривает — «а это гвоздики, как прибивали Христа мучители злодеи… сюда гвоздик, и сюда гвоздик, и…» — и вминает веселые малинки. А мне думается: «зачем веселые… лучше бы синие чернички!..» Все мы смотрим, как складывает она «кресты». На большом противне лежат они рядками, светят веселыми малинками. Беленькие «кресты», будто они из лапки, оструганы. Бывало, не дождешься: ах, скорей бы из печи вынимали!
И еще наставлял Горкин:
— Вкушай крестик и думай себе — «Крестопоклонная», мол, пришла. А это те не в удовольствие, а… каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить… и покорно его нести, как Господь испытание посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а в разумение приводит.
Как и в Чистый Понедельник, по всему дому воскуряют горячим уксусом с мяткой, для благолепия-чистоты. Всегда курят горячим уксусом после тяжелой болезни или смерти. Когда померла прабабушка Устинья и когда еще братец Сережечка от скарлатины помер, тоже курили — изгоняли опасный дух. Так и на «Крестопоклонную». Горкин последнее время что-то нетверд ногами, трудно ему носить медный таз с кирпичом. За него носит по комнатам Андрюшка, а Горкин поливает на раскаленный кирпич горячим уксусом-эстрагоном из кувшина. Розовый кислый пар вспыхивает над тазом шипучим облачком. Андрюшка отворачивает лицо, трудно дышать от пара. Этот шипучий дух выгонит всякую болезнь из дома. Я хожу за тазом, заглядываю в темные утолки, где притаился «нечистый дух». Весело мне и жутко: никто не видит, а он теперь корчится и бежит, — думаю я в восторге, — «так его, хорошенько, хорошенько!..» — и у меня слезы на глазах, щиплет-покалывает в носу от пара. Андрюшка ходит опасливо, боится. Горкин указывает тревожным шепотком — «ну-ка, сюда, за шкап… про-парим начисто»… — шепчет особенные молитвы, старинные, какие и в церкви не поются: «…и заступи нас от козней и всех сетей неприязненных… вся дни живота…» Я знаю, что это от болезни — «от живота», а что это — «от козней-сетей»? Дергаю Горкина и шепчу — «от каких козней-сетей»? Он машет строго. После уж, как обкурили все комнаты, говорит:
— Дал Господь, выгнали всю нечистоту, теперь и душе полегче. «Крестопоклонная», наступают строгие дни, преддверие Страстям… нонче Животворящий Крест вынесут, Христос на страдания выходит… и в дому чтобы благолепие-чистота.
Это — чтобы его и духу не было.
В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка, чистого стекла, «постная», как и у нас в передней — перед прабабушкиной иконой «Распятие». Лампадку эту Горкин затеплил в прощеное воскресенье, на Чистый Понедельник, и она будет гореть до после обедни в Великую Субботу, а потом он сменит ее на розовенькую-веселую, для Светлого Дня Христова Воскресенья. Эта «постная» теплится перед медным Крестом, старинным, на котором и меди уж не видно, а зелень только. Этот Крест подарили ему наши плотники. Когда клали фундамент где-то на новой стройке, нашли этот Крест глубоко в земле, на гробовой колоде, «на человечьих костях». Мне страшно смотреть на Крест. Горкин знает, что я боюсь, и сердится:
— Грешно бояться Креста Господня! его бесы одни страшатся, а ты, милок, андельская душка. Ну, что ж, что с упокойника, на гробу лежал! все будем под крестиком лежать, под Господним кровом… а ты боишься! Я уж загодя распорядился, со мной чтобы Крест этот положили во гроб… вот и погляди покуда, а то с собой заберу.
Я со страхом смотрю на Крест, мне хочется заплакать. Крест в веночке из белых бумажных роз. Домна Панферовна подарила, из уважения, сама розочки смастерила, совсем живые.
— Да чего ты опасливо так глядишь? приложись вот, перекрестясь, — бесы одни страшатся!.. приложись, тебе говорю!..
Он, кряхтя, приподымает меня ко Кресту, и я, сжав губы, прикладываюсь в страхе к холодной меди, от которой, чуется мне… мышами пахнет!.. Чем-то могильным, страшным…
— И никогда не убойся… «смертию смерть поправ», поется на Светлый День. Крест Господень надо всеми православными, милок. А знаешь, какой я намедни сон видал?.. только тебе доверюсь, а ты никому, смотри, не сказывай. А то надумывать всякое начнут… Не скажешь, а? Ну, пообещался — ладно, скажу тебе, доверюсь. Вот ты и поймешь…. нету упокойников никаких, а все живые у Господа. И сон мой такой-то радостный-явный, будто послано мне в открытие, от томления душевного. Чего-чего?.. а ты послушай. Да никакой я не святой, дурачок… а такое видение мне было, в открытие. Вижу я так… будто весна настала. И стою я на мостовой насупротив дома нашего… и га-лок, галок этих, чисто вот туча черная над нашим двором, «свадьба» будто у них, как всегда по весне к вечеру бывает. И чего-то я, будто, поджидаю… придет кто-то к нам, важный очень. Гляжу, наш Гришка красным песочком у крыльца посыпает, как в самый парадный день, будто Царицу Небесную ожидаем. И несут нам от ратникова великие ковриги хлеба, сила хлеба! К важному это, когда хлеб снится. Всю улицу хлебом запрудило. И галки, будто, это на хлеб кричат, с радости кричат. Гляжу дальше… — папашенька на крыльцо выходит, из парадного, во всем-то белом, майском… такой веселый, парадный-нарядный!.. — Царицу Небесную встречать. А за ним Василь-Василич наш, в новом казакине, и холстиной чистой обвязан, рушником мытым, — будто икону принимать нести. Смотрю я к рынку, не едет ли шестерня, голубая кареты, — Царица Небесная. А на улице — пусто-пусто, ну — ни души. И вот, милок, вижу я: идет от рынка, от часовни. Мартын-плотник, покойный, сказывал-то летось тебе, как к Троице нам итить… Государю Лександре Николаичу нашему аршинчик-то на глаз уделал, победу победил при всех генералах… Царь-то ему золотой из своих ручек пожаловал. Идет Мартын в чистой белой рубахе и… что ж ты думаешь!.. — несет для нас но-вый Крест! только вот, будто вытесал… хороший сосновый, в розовинку чуток… так-то я ясно вижу! И входит к нам в ворота, прямо к папашеньке, и чего-то ласково так на ухо ему, и поцеловал папашеньку! Я, значит, хочу подойтить к ним, послушать… чего они толкуют промеж себя… и не помыслилось даже мне, что Мартын-то давно преставился… а будто он уходил на время. Крест там иде тесал! Ну, под хожу к ним, а они от меня, на задний двор уходят, на Донскую улицу, будто в Донской монастырь пошли. Крест становить, кому-то! — в мыслях так у меня. А Василь— Василич и говорит мне: «Михал Панкратыч, как же это мы теперь без хозяина-то будем?!.» Дескать, ушел вот и не распорядился, а надо вот-вот Царицу Небесную принимать. А я ему говорю, — «они, может, сейчас воротятся…» — сразу так мне на мысли: «может, пошли они Крест на могилке покойного дедушки становить… сейчас воротятся». И в голову не пришло мне, что дедушка твой не на Донском, а на Рогожском похоронен! А у нас Мартын всем, бывало, кресты вытесывал, такая у него была охота, и никогда за работу не брал, а для души. Ну, ушли и ушли… а тут, гляжу, Царицу Небесную к нам везут… — так это всполошился сердцем, и проснулся. Я тогда целый день как не в себе ходил, смутный… сон-то такой мне был…
— А это чего, смутный?.. помрет кто-нибудь, а?.. — спрашиваю я, в страхе.
— А вот слушай, сон-то, словно, к чему мне был, думатся так теперь. Хожу, смутный, будто я не в себе. Папашенька еще пошутил-спросил: «чего ты сумный такой? таракана, что ль, проглотил?..» Ну, неспокойный я с того сну стал, разное думаю. И все в мыслях у меня Мартынушка. Дай, думаю, схожу-навещу его могилку. Поехал на Даниловское… — что же ты думаешь! Прихожу на его могилку, гляжу… — а Крест-то его и повалился, на земи лежит! Во, сон-то мой к чему! Дескать, Крест у меня повалился, вот и несу ставить. Вон к чему. А ты все-таки папашеньке про Крест не сказывай, про сон-то мой. Он вон тоже видал сон, неприятный… рыбу большую видал, гнилую‑ю… вплыла, будто, в покои, без воды, стала под образа… Расстроились они маленько со сну того. Не надо сказывать про Мартына…
— К смерти это, а?… — спрашиваю опять, и сердце во мне тоскует.
— Да я ж те говорю — Крест у Мартына повалился! а сказывать не надо. А ты дальше слушай. С чего ж, думаю, свалиться ему. Кресту-то? — крепко ставлен. Гляжу — и еще неподалечку крестик повалился… Тут я и понял. А вот. Большие снега зимой-то были, а весна взялась дружная, пошло враз таять, наводнило, земля разгрязла, и низинка там… а Крест-то тяжелый, сосна хорошая, крепкая… а намедни буря была какая!.. — ну, и повалило Крест-то. Значит, Мартын-покойник оповестить приходил, папашеньке пошептал — «поглядите, мол, Крест упал на моей могилке». Послал я робят, опять поставили. И панихидиу я заказал, отпели на могилке. Скоро память ему: в апреле месяце, как раз на Пасхе, помер. И ко Господу отошел, а нас не забывает. Чего же бояться-то!..
А я боюсь. Смотрю на картинку у его постели, как отходит старый человек, а его душенька, в голубом халатике, трепещет, сложив крестиком ручки на груди, а над нею Ангел стоит и скорбно смотрит, как эти, зеленые, на пороге жмутся, душу хотят забрать, а все боятся-корчатся: должно быть, тот старичок праведной жизни был. Горкин видит, как я смотрю, — всегда я в страхе гляжу на ту картинку, — и говорит:
— Пословица говорится: «рожался — не боялся, а помрешь — недорого возьмешь». Вон, наша Домна Панферовна в одном монастыре чего видала, для наставления, чтобы не убоялись смертного часу. На горе на высокой… ящик видала за стеклом, а в ящике черепушки и косточки. Монахи ей объяснили суть, чего напевно прописано на том ящике: «Взирайте и назидайте, мы были, како вы, и вы будете, како мы». Про прах тленный прописано. А душа ко Господу воспарит. Ну, вот те попонятней… Ну, пошел ты в баню, скинул бельецо — и в теплую пошел, и так-то легко те париться, и весь ты, словно развязался… Так и душа: одежку свою на земле покинет, а сама паром выпорхнет. Грешники, понятно, устрашаются, а праведные рвутся даже туда, как мы в баньку с тобой вот. Прабабушка Устинья за три дни до кончины все собиралась, салоп надела, узелок собрала, клюшку свою взяла… в столовую горницу пришла, поклонилась всем и говорит: «живите покуда, не ссорьтесь, а я уж пойду, пора мне, погостила». — И пошла сенями на улицу. Остановили ее — «куда вы, куда, бабушка, в метель такую?..» А она им: «Ваня меня зовет, пора…» Все и говорила: «ждут меня, Ваня зовет…» — прадедушка твой покойный. Вот как праведные-то люди загодя конец знают. Чего ж страшиться, у Господа все обдумано-устроено… обиды не будет, я радость-свет. Как в стихе-то на Вход Господень в Ерусалим поется?.. Как так, не помню! А ты помни: «Обчее Воскресение прежде Твоея страсти уверяя…» Значит, всем будет Воскресение. Смотри-взирай на святый Крест и радуйся, им-то и спасен, и тебя Христос искупил от смерти. Потому и «Крестопоклонную» поминаем, всю неделю Кресту поклоняемся… и радость потому, крестики сладкие пекутся, душеньку радовать. Все хорошо прилажено. Наша вера хорошая, веселая.
Я иду в сад поглядеть, много ли осталось снегу. Гора почернела и осела, под кустами протаяло, каркают к дождю вороны, цокают галочки в березах. Я все думою о сне Горкина, и что-то щемит в сердце. Буду в первый раз в жизни говеть на «Крестопоклонной», надо о грехах подумать, о часе смертном. Почему Мартын поцеловал папашеньку? почему Горкин не велит сказывать про Мартына? Думаю о большой, гнилой, рыбе, — видел во сне папашенька. Всегда у нас перед тяжелой болезнью видят большую рыбу… а тут еще и — гнилая! почему — гнилая?!. Видел и дедушка. Рассказывал Горкин в прошлом году на Страстной, когда ставили на амбар новенький скворешник… Раз при дедушке чистили скворешники, нашли натасканное скворцами всякое добро: колечко нашли с камушком; дешевенькое, и серебряный пятачок, и еще… крестик серебряный… Мартын подал тот крестик дедушке. И все стали вздыхать, примета такая, крестик найти в скворешнике. А дедушка стал смеяться: «это мне Государь за постройку дворца в Коломенском крестик пожалует!» А через сколько-то месяцев и помер. Вот и теперь:
Крест Мартын-покойный принес и поцеловал папашеньку. Господи, неужели случится это?!.
На дворе крик, кричит лавочник Трифоныч: «кто же мог унести… с огнем?!.» Бегу из садика. У сеней народ. Оказывается, поставила Федосья Федоровна самовар… и вдруг, нет самовара! ушел, с огнем! Говорят: небывалое дело, что-нибудь уж случится!.. Остался Трифоныч без чаю, будет «нечаянность». Я думаю — Трифонычу будет «нечаянность», его самовар-то! И угольков не нашли. Куда самовар ушел? — прямо — из глаз пропал. И как жулик мог унести… с огнем?! Говорят — «уж что-то будет!». Отец посмеялся: «смотри, Трифоныч, в протокол как бы не влететь, шкалики за стенкой подносишь а патента не выбираешь!» А все говорят — «протокол пустяки… хуже чего бы не случилось».
Скоро ко всенощной, к выносу Креста Господня. Как всегда по субботам, отец оправляет все лампадки. Надевает старенький чесучовый пиджак, замасленный, приносит лампадки и ставит на выдвижной полочке буфета. Смотреть приятно, как красуются они рядками, много-много, — будничные, неяркие. А в Великую Субботу затеплятся малиновые, пунцовые. Отец вправляет светильни в поплавочки, наливает в лампадки афонское, «святое», масло и зажигает все. Любуется, как они светятся хорошо. И я любуюсь: — это — святая иллюминация. Носит по комнатам лампадки и напевает свое любимое и мое:
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко… и Свя-тое… Воскре-се-ние Твое… сла-а-а-авим». Я ступаю за ним и тоже напеваю. Радостная молитовка: слышится Пасха в ней. Вот и самая главная лампадка, перед образом «Праздников», в белой зале. На Пасху будет пунцовая, а теперь — голубая, похожая на цветок, как голубая лилия. Отец смотрит, задумавшись. На окне — апельсиновое деревцо, его любмое. В прошлом году оно зацвело в первый раз, а нынче много цветков на нем, в зеленовато-белых тугих бутончиках. Отец говорит:
— Смотри-ка, Ванятка, сколько у нас цветочков! И чайное деревцо цветет, и агавы… и столетник, садовник говорит, может быть, зацветет. Давно столько не было цветков. Только «змеиный цвет» что-то не дает… он один раз за тридцать лет, говорят, цветет.
Он поднимает меня и дает понюхать осторожно белый цветочек апельсинный. Чудесно пахнет… любимыми его душками — флердоранжем!
Я смотрю на образ «Всех Праздников», и вспоминаю вдруг папашенькин сон недавний: в эту белую нашу залу вплыла большая, «гнилая», рыба… вплыла «без воды»… и легла «головой к Образу»… Мне почему-то грустно.
— Что это ты такой, обмоклый?.. — спрашивает отец и прищипывает ласково за щечку.
На сердце такое у меня, что вот заплачу… Я ловлю его руку, впиваюсь в нее губами, и во мне дрожь, от сдержанного плача. Он прижимает меня и спрашивает участливо:
— Головка не болит, а? горлышко не болит?.. Вытирает мне слезы «лампадным» пальцем. Я не знаю, как ему рассказать, что со иной. Что-то во мне тоскливое — и сам не знаю…
— Вот уж и большой ты, говеть будешь… — говорит он, размазывая пальцем слезки.
В его словах слышится мне почему-то такое грустное… никогда не слыхал такого. Может быть, он вспоминает сон?.. Помню, это было на днях, так же грустно рассказывал он матушке: «такой неприятный сон, никак не могу забыть… ужасно неприятный… помру, может?.. Ну, похороните… „делов-то пуды, а она — ту-ды“!..» — повторил он знакомую приговорку Горкина: теперь она мне понятна.
Ходит но зале, любуется на цветы и напевает — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…». Подходит к зеленой кадушке на табуретке. Я знаю: это — «арма», так называл садовник-немец, из Нескушного, пересаживавший цветы. Но у нас называют — «страшный змеиный цвет». Листья его на длинных стеблях, похожи на веселки. Земля его ядовитая, ее выбрасывают в отхожее, а то наклюются куры и подохнут. Этот цветок подарил дедушке преосвященный, и дедушка помер в тот самый год. Говорят, цветет этот «змеиный цвет» очень редко, лет через двадцать-тридцать. Лет пятнадцать, как он у нас, и ни разу еще не цвел. Цветок у него большой, на длинном стебле, и похож на змеиную голову, желтую, с огненно-синим «жалом».
— Вот так штука!.. — вскрикивает отец, — никак наш «змеиный цвет» думает зацветать?! что-то оттуда вылезает…
Он осторожно отгибает длинные «веселки» и всматривается в щель, меж ними, откуда они выходят. Мне не видно, цветок высокий.
— Лезет что-то… зеленая будто шишечка… вот так штука?! а? — дивясь, спрашивает он меня, подмигивает как-то странно. — Вот мы с тобой и дождались чуда… к Пасхе и расцветет, пожалуй.
В открытую форточку пахнет весной, навозцем, веет теплом и холодочком. Слышно — благовестят ко всенощной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба: батюшка вынесет из алтаря Животворящий Крест, возложив его на голову, на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами; остановится перед Царскими Вратами — и возгласит в тишине: «Прему-дрость…. про-сти‑и!..» И понесет на главе на середину церкви, на аналои. И воспоют сперва радующее — «Спаси, Господи, люди Твоя», а потом, трижды тоже, самое мое любимое — «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…».
Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит — «страшный змеиный цвет».
— Поди, поди-ка сюда!.. — зовет он матушку. — Штука-то какая лезет!.. Смотри-ка, «змеиный-то цвет»… никак цветочный стебель дает?!.
— Да что-о-ты… Го-споди!.. — говорит матушке тревожно и крестится.
Разглядывают оба что-то, невидное мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится: с этим «змеиным цветом» связалось у ней предчувствие несчастья.
— Да… это, пожалуй, цвет… бугорок зеленый… не лист это… — говорит она, оттягивая стебли. — Сколько тебя просила… вы-брось!., — шепчет она с мольбой и страхом.
— Глупости!.. — с раздражением говорит отец и начинает напевать любимое, светлое такое…
— Спаси нас, Господи… — крестится матушка. Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту «арму», помер дедушка… потом отошла прабабушка Устинья, потом Сереженька… Сколько раз матушка просила — «выкинь этот ужасный „змеиный цвет“»! А отец не хотел и думать. И вот, время пришло «страшный змеиный цвет» набирает бутон-цветок.
С.М. Серову
Говенье
Еще задолго до масленицы ставят на окно в столовой длинный ящик с землей и сажают лук — для блинов. Земля в ящике черная, из сада, и когда польют теплой водой — пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого «перышка». Надоест ждать, забудешь, и вдруг — луковки все зазеленели! Это и есть весна.
Солнце стало заглядывать и в залу, — конец зиме. Из Нескучного сада пришел садовник-немец, «старший самый», — будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Фирсанова, такие же у него седые бакенбарды, и, как Фирсанов тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка сносит цветы в столовую. Немец зовет его — «шут карококовый»,— «гороховый», — и все говорит — «я‑я». Гришка огрызается на него: «якала, шут немецкий». Столовая — будто сад, такой-то веселый кавардак: пальмы, фикусы, олеандры, фуксии, столетник… и «страшный змеиный цвет». Листья у него длинные, как весла, и никто не видел, как он цветет. Говорят, будто «огнем цветет» совсем змеиная пасть, и с жалом. Немец велит Гришке землю из-под него выбросить «в нужни мест, где куры не клюются». Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки: должно быть, им очень страшно. Их собирают в баночку, для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бадеечках. И молчавший всю зиму жавороночек пробует первое журчанье, — словно водичка бульбулькает. Значит, весна подходит.
В ящике густо-зелено, масленица пришла. Масленица у нас печальная: померла Палагея Ивановна, премудрая. Как сказала отцу в Филиповки — так и вышло: повезли ее «парой» на Ваганьковское. Большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали.
И в детской у нас весна.
Домнушка посадила моченый горох, он уж высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит, — до неба-то не скоро, не раньше Пасхи. Я знаю, до неба не может дорасти, а приятно так говорить. Недавно я прочитал в хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься — и видишь, вырос горох до неба, я лезу, лезу… если бы рай увидеть!.. Только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, — грехи тянули, а он старуху еще забрал!.. — я горох сломал, и сам свалился, и старуху свою зашиб.
— А праведные… могут до неба?..
— А праведные и без гороха могут, ангели вознесут на крылах. А он исхитрялся: по гороху, мол, в рай долезу! Не по гороху надо, а в сокрушении о грехах.
— Это чего — «в сокрушении»?
— Как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж отроча… семь годков скоро, а сокрушения не знаешь! Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони-воздохни: «Господи, милостив буди мне грешному!» Вот те и сокрушение.
— Ты бы уж со мной поговел… меня хотят на Страстной говеть, со всеми, а лучше бы мне с тобой, на «Крестопоклонной», не страшно бы?.. Выпроси уж меня, пожалуйста.
Он обещает выпросить.
— Папашенька бы ничего, а вот мамашенька… все-то с мужиками, говорит, слов всяких набираешься.
— Это я «таперича» сказал, а надо говорить — «теперича». А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит… как это?.. — чего-то он наложит?..
Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору, он чего-то и наложит. Чего наложит?..
— Грехи с тобой, уморил!.. — смеется Горкин, хоть и Великий Пост. — Да это она про эту… про питимью!
— Какую «пи-ти-мью»?.. это чего, а?.. страшное?..
— Это только за страшный грех, питимья… и знать те негодится. Ну, скажешь ему грешки, посокрушаешься… покрестит те батюшка головку на питрахили и отпустит, скажет-помолится — «аз, недостойный иерей, прощаю-разрешаю». Бояться нечего, говенье душе радость. Даст Бог, вместе с тобой и поговеем, припомним с тобой грешки, уж без утайки. Господу, ведь, открываешься, а Он все‑о про нас ведает. Душенька и облегчится, радостно ей будет.
И все-таки мне страшно. Недавно скорняк Василь-Василич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам: такое видение сна ей было, будто уж она померла. И на каждом мытарстве — эти… все загородки ставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась-трепетала, а за ней Ангел, нес ее добрые дела в мешочке и откупал ее. А у этих все-то про все записано, в рукописаниих… все-то грехи, какие и забыла даже. А на последнем мытарстве, самые эти главные, смрадные и звериные, вцепились в нее когтями и стали вопить — «наша она, наша!..» Ангел заплакал даже, от жалости. Да пошарил в пустом уж мешочке, а там, в самом-то уголке, последнее ее доброе дело завалилось! Как показал… — смрадные так и завопили, зубы даже у них ломались, от скрежета… а пришлось все-таки отпустить.
И вдруг я помру без покаяния?! Ну, поговею, поживу еще, хоть до «Петровок», все-таки чего-нибудь нагрешу, грех-то за человеком ходит… и вдруг мало окажется добрые дел, а у тех все записано! Горкин говорил, — тогда уж молитвы поминовенные из адова пламени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут… Скорей бы уж поговеть, в отделку, душе бы легче. А до «Крестопоклонной» целая еще неделя, до исповедальной пятницы, сто раз помереть успеешь.
Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, скорняк со скорнячихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже: «когда говеете?.. ай поговели уж?..» Говорят, весело так, от облегчения; «отговелись, привел Господь». А то — тревожно, от сокрушения: «да вот, на этой недельке, думаю… Господь привел бы». На третьей у сапожника отговелись трое мастеров, у скорняка старичок «Лисица», по воротникам который, и наш Антипушка. Марьюшка думает на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И бутошник собирается говеть, Горкину говорил вчера. Кучер Гаврила еще не знает, как уж управится, езды много… — как-нибудь да урвет денек. Гришка говеть боится: «погонит меня, говорит, поп кадилом, а надо бы говонуть, как не вертись». Василь-Василич думает на Страстной, с отцом: тогда половодье свалит, Пасха-то ноне поздняя. И как это хорошо, что все говеют! Да ведь все люди-человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым, ведь, час смертный. И будем опять все вместе, встретимся там… будто и смерти не было. Только бы поговели все.
Ну, все-то, все говеют. Приносили белье из бань, сторожиха Платоновна говорила: «и думать нечего было раньше-то отговеться, говельщиц много мылось, теперь посбыло, помаленьку и отговеем все». И кузнец думает говеть, запойный. Ратниковы, булочники, целой семьей говели. Они уж всегда на первой. А пекари отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время — пасхи да куличи. А бараночникам и теперь жара: все так и рвут баранки. Уж как они поговеть успеют?.. Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела: два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть, на Страстной. Антипушка говорит, что она это Михал Панкратыча хочет перещеголять, он два раза говеет только. А Горкин за нее вступился: «этим не щеголяют… а женщина она богомольная, сырая, сердцем еще страдает, дай ей, Господи, поговеть». Бог даст, и я поговею хорошо, тогда не страшно.
С понедельника, на «Крестопоклонной», ходим с Горкиным к утрени, раным-рано. Вставать не хочется, а вспомнишь, что все говеют, — и делается легко, горошком вскочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах, и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебреца, я покупаю у Горкина свечки. Будто чужой-серьезный, и ставлю сам к главным образам и распятию. Когда он ходит по церкви с блюдом, я кладу ему три копейки, и он мне кланяется, как всем, не улыбнется даже, будто мы разные.
Говеть не очень трудно. Когда вычитывает дьячок длинные молитвы, Горкин манит меня присесть на табуретку, и я подремлю немножко или думаю-воздыхаю о грехах. Ходим еще к вечерне, а в среду и пяток — к «часам» еще к обедне, которая называется «преосвященная». Батюшка выходит из Царских Врат с кадилом и со свечой, все припадают к полу и не глядят-страшатся, а он говорит в таинственной тишине: «Свет Христов просвещает все-эх!..» И сразу делается легко и светло: смотрится в окна солнце.
Говеет много народу, и все знакомые. Квартальный говеет даже, и наш пожарный, от Якиманской части, в тяжелой куртке с железными пуговицами, и от него будто дымом пахнет. Два знакомых извозчика еще говеют, и колониальщик Зайцев, у которого я всегда покупаю пастилу. Он все становится на колени и воздыхает — сокрушается о грехах: сколько, может, обвешивал народу!.. Может, и меня обвешивал и гнилые орешки отпускал. И пожарный тоже сокрушается, все преклоняет голову. А какие у него грехи? сколько людей спасает, а все-таки боится. Когда батюшка говорит грустно-грустно — «Господи и Владыко живота моего…» — все рухаемся на колени и потом, в тишине-сокрушении, воздыхаем двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного…» После службы подаем на паперти нищим грошики, а то копейки: пусть помолятся за нас, грешных.
Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласкова, называет — «великий постник». Отец все справляется — «ну, как дела, говельщик, не заслабел?». Он не совсем веселый, «разные неприятности», и Кавказка набила спину, приходится седлать Стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать; норовистая, всего пугается, — иноходец, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой, не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка, жаренного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет, говорит — «отшибло, после того…». Я знаю почему… — ему противно от того сна: как огромная, «вся гнилая», рыба-белуга вплыла, без воды, к нам в залу и легла «головою под образа»… Теперь ему от всякой рыбы «гнилью будто попахивает».
Домнушка спрашивает, как мне мешочек сшить, побольше или поменьше, — понесу батюшке грехи. Отец смеется; «из-под углей!» И я думаю — «черные-черные грехи…».
Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в «тридцатку», где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело: «ничего, все грехи отмоем». В бане — отец протодьякон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину: «а, кости смиренные… па-риться пришли!» — густо, будто из живота. Я гляжу на него и думаю: «Крестопоклонная», а он моченые яблоки мякает… и живот у него какой, мамона!.. А он хряпает и хряпает.
Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит: «ох, грехи наши тяжкие…» А это мясник Лощенов. Признал нас и говорит: «говеете, стало быть… а чего вам говеть, кожа да кости, не во что и греху вцепиться». Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодьякон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок: «ну, говельщик, грехи-то смыл?» — и угостил капусткой, яблоки-то все съел.
Выходим мы из бани, и спрашиваю я Горкина:
— А протодьякон… в рай прямо, он священный? и не говеет никогда, как батюшка?
— И они говеют, как можно не говеть! один Господь без греха.
Даже и они говеют! А как же, на «Крестопоклонной» — и яблоки? чьи же молитвы-то из адова пламени подымут? И опять мне делается страшно… только бы поговеть успеть.
В пятницу, перед вечерней, подходит самое стыдное: у всех надо просить прощение. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок, надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня:
— А вот и не прощу!
Горкин его усовестил, — этим шутить не годится. Он поломался маленько и сказал, важно так:
— Ну, ладно уж, прощаю! А я перед ним, правда, очень согрешил: назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком, да и скажи — «с семгой еще ели». Он меня на смех и поднял: «как так, с Се-мкой? мальчика Семку ты съел?!» — прямо, до слез довел. Я стал ему говорить, что не Семку, а се-мгу. Такая рыба, красная… — а он все на смех: «мальчика Семку съел!» Я схватил лопату да об тумбу и расколол. Он и говорит, осерчал:
«Ну, ты мне за эту лопату ответишь!» И с того проходу мне не давал. Как завидит меня — на весь-то двор орет: «мальчика Семку съел!» И другие стали меня дразнить, хоть на двор не показывайся. Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился, тогда только и перестали.
И Василь-Василич меня простил, по-братски. Я его Косым сколько называл, — и все его Косым звали, а то у нас на дворе другой еще Василь-Василич, скорняк, так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощенья просил: «да я и взаправду косой, и во хмелю ругаюсь… ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались, мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась.
Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, — как я в Чистый Понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу, — за досками несла яички, в самоседки готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить — «не сказывай, смотри, мамаше… на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал:
— Это на Гришке грех, он тебя искусил, как враг. Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем, а Гришка и говорит: «вот, годи… заставит тебя поп на закорках его возить!» Я ему говорю, что это так, нарочно, шутят. А он мне — «а вот увидишь „нарошно“… а зачем там заслончик ставят?» Душу мне и смутил, хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился, а Гришке сказал:
— Ах, ты… пропащая твоя душа!..
Перекрестились мы и пошли. А это все тот: досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение — рассердит.
Приходим загодя до вечерни, а уж говельщиков много понабралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходят по одному, со свечкой. Вспомнил я про заслончик — душа сразу и упала. Зачем заслончик? Горкин мне объяснил — это чтобы исповедники не смущались, тайная исповедь, на духу, кто, может, и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится. Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду. И у всех головы нагнуты, для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует три копейки, а я плачу.
— Ты чего плачешь… сокрушаешься? — спрашивает. А у меня губы не сойдутся.
У свещного ящика сидит за столиком протодьякон, гусиное перо держит.
— Иди-ка ко мне!.. — и на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало: большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет, — грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо увидал: как в Филиповки протодьякон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодьякона, что на «Крестопоклонной» моченые яблоки вкушает и живот у него такой. Сказать?.. ведь у тех все записано. Порешил сказать, а это он не грехи записывает, а кто говеет, такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня, из живота: «о грехах воздыхаешь, парень… плачешь-то? Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься». И провел перышком по моим глазам.
Нас пропускают наперед. У Горкина дело священное — за свещным ящиком, и все его очень уважают. Шепчут: «пожалуйте наперед, Михал Панкратыч, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное, Я думаю: «и пожаров не боится, а тут боится». Вижу под ширмой огромный его сапог. Потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, — опустился, пожалуй, на коленки. И нет сапога: выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой, много раз, скоро-скоро, будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, — оплакивает грехи?
— Ну, иди с Господом… — шепчет Горкин и чуть поталкивает, а у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл.
Он ведет меня за руку и шепчет — «иди, голубок, покайся». А я ничего не вижу, глаза застлало. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами аналой и о. Виктора. Он манит меня и шепчет: «ну, милый, откройся перед Крестом и Евангелием, как перед Господом, в чем согрешал… не убойся, не утаи…» Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: «ну, папашеньку-мамашеньку не слушался…» А я только про лапку помню.
— Ну, что еще… не слушался… надо слушаться… Что, какую лапку?..
Я едва вышептываю сквозь слезы:
— Гусиная лапка… гу… синую лапку… позавидовал… Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я ему открываю все. Он гладит меня по головке и вздыхает:
— Так, умник… не утаил… и душе легче. Ну, еще что?..
Мне легко, и я говорю про все: и про лопату, и про, яичко, и даже как осуждал о. протодьякона, про моченые яблоки и его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать большой грех, особенно старших.
— Ишь, ты, какой заметливый… — и хвалит за «рачение» о душе.
Но я не понимаю, что такое — «рачение». Накрывает меня епитрахилью и крестит голову. И я радостно слышу: «…прощаю и разрешаю».
Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят, — очень я долго был. Может быть, думают, какой я великий грешник. А на душе так легко-легко.
После причастия все меня поздравляют и целуют, как именинника. Горкин подносит мне на оловянной тарелочке заздравную просвирку. На мне новый костюмчик, матросский, с золотыми якорьками, очень всем нравится. У ворот встречает Трифоныч и преподносит жестяную коробочку «ландринчика»-монпансье: «телу во здравие, душе во спасение, с причастимшись!» Матушка дарит «Басни Крылова с картинками, отец — настоящий пистолет с коробочкой розовых пистонов и „водяного соловья“: если дуть в трубочку в воде, он пощелкивает и журчит, как настоящий живой. Душит всего любимыми духами — флердоранжем. Все очень ласковы, а старшая сестрица Сонечка говорит, нюхая мою голову: „от тебя так святостью и пахнет, ты теперь святой — с молока снятой“. И правда, на душе у меня легко и свято.
Перед парадным чаем с душистыми „розовыми“ баранками, нам с Горкиным наливают по стаканчику „теплотцы“, — сладкого вина-кагорцу с кипяточком, мы вкушаем заздравные просвирки и запиваем настояще-церковной „теплотцой“. Чай пьем по-праздничному, с миндальным молоком и розовыми сладкими баранками, не круглыми, а как длинная петелька, от которых чуть пахнет миром, — особенный чай, священный. И все называют нас уважительно: причастники.
День теплый, солнечный, совсем-то совсем весенний. Мы сидим с Горкиным на согревшейся штабели досок, на припеке, любуемся, как плещутся в луже утки, и беседуем о божественном. Теперь и помирать не страшно, будто святые стали. Говорим о рае, как летают там ангелы — серафимы-херувимы, гуляют угодники и святые… и, должно быть, прабабушка Устинья и Палагея Ивановна… и дедушка, пожалуй, и плотник Мартын, который так помирал, как дай Бог всякому. Гадаем-домекаем, звонят ли в раю в колокола?.. Чего ж не звонить, — у Бога всего много, есть и колокола, только „духовные“, понятно… — мы-то не можем слышать. Так мне легко и светло на душе, что у меня наплывают слезы, покалывает в носу от радости, и я обещаюсь Горкину никогда больше не согрешать. Тогда ничего не страшно. Много мы говорим-гадаем… И вдруг, подходит Гриша и говорит, оглядывая мой костюмчик: „матрос… в штаны натрёс!“ Сразу нас — как ошпарило. Я хотел крикнуть ему одно словечко, да удержался-вспомнил, что это мне искушение, от того. И говорю ласково, разумно, — Горкин потом хвалил:
— Нехорошо, Гриша, так говорить… лучше ты поговей, и у тебя будет весело на душе.
Он смотрит на меня как-то странно, мотает головой и уходит, что-то задумчивый. Горкин обнял меня и поцеловал в маковку, — „так, говорит, и надо!“. Глядим, Гриша опять подходит… и дает мне хорошую „свинчатку“ — биту, целый кон бабок можно срезать! И говорит, очень ласково:
— Это тебе от меня подарочек, будь здоров. И стал совсем ласковый, приятный. А Горкину сапоги начистить обещался, „до жару!“ И поговеть даже посулился, — три года, говорит, не говел, и вы меня разохотили».
Подсел к нам, и мы опять стали говорить про рай, и у Горкина были слезы на глазах, и лицо было светлое, такое, божественное совсем, как у святых стареньких угодников. И я все думал, радуясь на него, что он-то уж непременно в рай попадет, и какая это премудрость-радость — от чистого сердца поговеть!..
Вербное воскресенье
На шестой неделе Великого Поста прошла Москва-река.
Весна дружная, вода большая, залила огороды и нашу водокачку, откуда подается вода в бани. Сидор-водолив с лошадьми будет теперь как на море, — кругом-то-кругом вода. Обедать ему подвозят на плотике, а лошадям сена хватит. Должно быть, весело там ему, на высокой водокачке: сидит себе на порожке — посматривает, как вода подымается, трубочку сосет, чаек пьет, — никто не побеспокоит. Василь-Василич поехал на плотике его проведать — да и застрял: бадья с колеса ухом сорвалась, заело главное колесо, все и чинились с Сидором. Ну, починил-пустил, поехал назад на плотике, шестик с руки сорвался, он и бултых в воду. Спасибо еще — ветла попалась, ухватился-вскарабкался, — чуть было не потоп. Подъехали на лодке, сняли его с ветлы, а у него и язык отнялся. Хорошо еще — погрелись они с Сидором маленько, а то пропадом-пропадай: снеговая вода, сту-деная. Отец посерчал: «разбойник ты, мошенник, целый день проваландался!.. знаю твою „бадью“.. за что только Господь спасает!..» А за доброту, говорят, — с народом по правде поступает, есть за него молельщики.
Вербная суббота завтра, а Михал Иваныч не везет, вербу и не везет. Горкин ахает, хлопает себя по бокам, — «да ну-ка, он заболел в лесу… старосты мы церковные, как — без вербы?!.» Бывало, в четверг еще привозил, а вот и пятница, — и нет вербы! В овражке уж не угряз ли со старухой, лошаденка старенькая у них, а дороги поплыли, места глухие… Отец верхового на зорьке еще послал и тот что-то позапропал, а человек надежный. Антон Кудрявый водочкой балуется не шибко. Горкин уж порешил на Красную Площадь после обеда ехать, у мужиков вербу закупать. Ни в кои-то веки не было, срам какой… да и верба та — наша разве! Перед самым обедом кричат от ворот ребята — «Михал-Иванов едет, вербу везет!..» Ну, слава те, Господи.
Хорошо, что Антона Кудрявого послали. Повстречал стариков за Воронцовым, в овраге сидят и плачутся: оглоблю поломали, и лошаденка упарилась, легла в зажоре. Вызволил их Антон, водочкой отогрел, лошадь свою припряг… — вот потому и позапоздали, целую ночь в зажоре!.. — «Старуха уж и отходить готовилась, на вербу все молилась: „свяченая вербушка, душеньку мою прими-осени!“ — сказывал Михал-Иванов, — а какая она свяченая, с речки только!»
Верба — богатая, вишневая-пушистая, полны санки; вербешки уж золотиться стали, крупные, с орех, — молиться с такой приятно. Михал-Иванова со старухой ведут на кухню — горячим чайком погреться. Василь-Василич подносит ему шкалик — «душу-то отогрей». Михал-Иванов кажется мне особенным, лесовым, как в сказке. Живет в избушке на курьих ножках, в глухом лесу, куда и дороги нет, выжигает уголь в какой-то яме, а кругом волки и медведи. Возит он нам березовый, «самоварный», уголь, какой-то «звонкий», особенный; и всем на нашей Калужской улице, и все довольны. И еще березовые веники в наши бани, — тем и живет со своей старухой. И никогда с пустыми руками не приедет, все чего-нибудь привезет лесного. Прошлый год зайца живого привезли, зимой с ними в избушке жил; да зайца-то мы не взяли: не хорошо зайца держать в жилье. А нынче белочку привезли в лукошке, орехи умеет грызть. И еще — целый-то мешок лесных орехов! Ореха было по осени… — обору нет. Трифонычу в лавку мешок каленых продали, а нам — в подарок, сырого, по заказу: отец любит, и я люблю, — не рассыпается на зубах, а вязнет, и маслицем припахивает, сладким духом орешным. Белка сидит в плетушке, глядеть нельзя: на крышу сиганет — про-щай. Отец любит все скоро делать: сейчас же послал к знакомому старику в Зарядье, который нам клетки для птиц ставит, — достать железную клетку, белкину, с колесом. Почему — с колесом? А потому, говорят: белка крутиться любит.
Я сижу в кухне, рядом с Михал-Ивановым, и гляжу на него и на старуху. Очень они приятные, и пахнет от них дымком и дремучим лесом. Михал-Иванов весь в волосах, и черный-черный, белые глаза только; все лицо в черных ниточках-морщинках, и руки черные-черные, не отмыть до самого Страшного Суда. Да там на это не смотрят: там — душу покажи. Отец скажет ему, бывало: «Михал-Иванов — трубочист, телом грязен — душой чист!» А он отмахивается: «и где тут, и душа-то угольная». Нет, душа у него чистая, как яичко. — Горкин говорит: грех по лесу не ходит, а по людям. Спрашиваю его — «а ты поговел?». И они, оказывается, уж поговели-сподобились, куда-то в село ходили. Марьюшка ставит им чугунок горячей картошки и насыпает на бумажку соли. Они сцарапывают кожуру ногтями, и картошка у них вся в пятнах, угольная. Очень нашу картошку одобряют, — слаже, говорят, сахару. У старика большой ноготь совсем размят, смотреть страшно, в ногах даже у меня звенит. «Это почему… палец?» — спрашиваю я, дергаясь от жути. А деревом защемило, говорит. А у старухи пальцы не разгибаются, будто курячья лапка, и шишки на пальцах вздулись, болезнь такая, — угольная болезнь? «Ну, и картошечка, говорят, в самый-то апетит». Они со вчерашнего утра не ели, в зажоре ночевали с вербой. Уж им теперь, хоть бы и не говели, все грехи простятся, за их труды: свяченую вербу привезли! Я сую старушке розовую баранку, а старику лимонную помадку, постную. Спрашиваю, — медведики у них водятся, в лесу-то там? Говорят — а как же, заглядывают. И еж в избушке у них живет, для мышей, Васькой звать. Зовут в гости к себе: «лето придет, вот и приезжай к нам погостить… и гриба, и ягоды всякой много, и малины сладкой-лесовой, и… а на болоте клюква». Даже клюква!..
За день так стаяло-подсушило, что в саду под крыжовником куры уж обираться стали, встряхиваться, — к дождю, пожалуй. Лужа на дворе растет не по дням, а по часам, скоро можно на плотике кататься, утки уж плещутся-ныряют. У лужи, на бережку, стоят стариковы дровянки с вербой — совсем роща, будто верба у лужи выросла, и двор весь весь словно просветился, совсем другой, — радостный весь, от вербы. Горкин Цыганку велел в сарай пока запереть, а то, ну-ка, на санки вскочит-набезобразит, а это не годится, верба церковная. На речке Сетуньке, где росла, — высоко росла, высокое древо-верба, птица только присядет, а птица не собака, не поганит. Я смотрю на вербу и радуюсь: какие добрые — привезли! сколько дней по Сетуньке в талом снегу топтались, все руки ободрали, и теперь сколько же народу радоваться будет в церкви! Христа встречать!!. И Горкин не нарадуется на вербу: задалась-то какая нонче, румяная да пушистая, золотцем тронуло вербешки! Завтра за всенощной освятим, домой принесем свяченую, в бутылочку поставим, — она как раз к Радунице, на Фоминой, белые корешки-ниточки выпустит. И понесем на Даниловское, покойному Мартыну-плотнику в голова посадим, порадуем его душеньку… И Палагее Ивановне посадим, на Ваганьковском. И как хорошо устроено: только зима уходит, а уж и вербочка опушилась — Христа встречать.
— Все премудро сотворено… — радуется на вербу Горкин, поглаживает золотистые вербешки. — Нигде сейчас не найтись цветочка, а верба разубралась. И завсегда так, на св. Лазаря, на Вход Господень. И дерева кланяются Ему, поют Осанну. Осанна-то?.. А такое слово, духовное. Сияние, значит, божественное, — Осанна. Вот она с нами и воспоет завтра Осанну, святое деревцо. А потом, дома, за образа поставим, помнить год цельный будем.
Я спрашиваю его — это чего помнить?
— Как — чего?.. Завтра Лазаря воскресил Господь. Вечная, значит, жизнь всем будет, все воскреснем. Кака радость-то! Так и поется — «Обчее воскресение… из мертвых Лазаря воздвиг Христе Боже…». А потом Осанну поют. Вербное Воскресенье называется, читал, небось, в «Священной Истории»? Я тебе сколько говорил… — вот— вот, ребятишки там воскликали, в Ирусалим-Граде, Христос на осляти, на муку крестную входит, а они с вербочками, с вайями… по-ихнему — вайя называется, а по-нашему — верба. А фарисеи стали серчать, со злости, зачем, мол, кричите Осанну? — такие гордые, досадно им, что не их Осанной встречают. А Христос и сказал им: «не мешайте детям ко Мне приходить и возглашать Осанну, они сердцем чуют…» — дети-то все чистые, безгрешные, — «а дети не будут возглашать, то камни-каменные возопиют!» — во как. Осанну возопиют, прославят. У Господа все живет. Мертвый камень — и тот живой. А уж верба-то и подавно живая, ишь — цветет. Как же не радоваться-то, голубок!..
Он обнимает вербу, тычется головой в нее. И я нюхаю вербу: горьковато-душисто пахнет, лесовой горечью живою, дремуче-дремучим духом, пушинками по лицу щекочет, так приятно. Какие пушинки нежные, в золотой пыльце… — никто не может так сотворить, Бог только. Гляжу — а у Горкина слезы на глазах. И я заплакал, от радости… будто живая верба! И уж сумерки на дворе, звездочки стали выходить, а у лужи совсем светло, будто это от вербы — свет.
Старикову лошадь поставили в конюшню, рядом с Кривой. Задали ей овсеца, а она, Антипушка говорит, овес-то изо рта просыпает, только разбрасывает, — отвыкла, что ли, от овса-то, или все зубы съела, старенькая совсем. Кривая-то перед ней о‑рел! Понятно, в бедности родилась, к овсу-то и не привыкшая, где там, в лесу-то, овса найти. А Кривая ласково ее приняла, пофыркала через боковинку. Может, и жалеет, понимает, — в гости к ней сирота пришла. Лошади все могут понимать. И серчать могут, и жалеть, плачут даже. Антипушка много повидал на своем веку. Когда молодой еще был, хозяева с места его решили, пришел он к лошадкам прощаться, а у них в глазах слезы, только не говорят.
— А Кривая, может, она чу-ет, что старикова лошадка священную вербу привезла… хорошо-то ее приняла? ей, может, так откры-лось, а? Горкин сказывал… в Град-Ирусалиме, даже камни-каменные могли бы вопиять… эту вот… Осанну! А лошадь животная живая, умная. Вот придет день Страшного Суда, и тогда все воскреснут, как Лазарь. А что, и Кривая тогда воскреснет?..
— Понятно, все воскреснет… у Бога-то! От Него все, и к Нему — все. Все и подымутся. Помнишь, летось у Троицы видали с тобой, на стене красками расписано… и рыбы страшенные, и львы-тигры несут руки-ноги, кого поели-разорвали… все к Нему несут, к Господу, в одно место. Это мы не можем, оттяпал палец там — уж не приставишь. А Господь… Го-споди, да все может! Как земля кончится, небо тогда начнется, жизнь вечная. У Господа ничего не пропадает, обиды никому нет.
В кухне лампадка теплится. Михал-Иванов пошел спать в мастерскую, на стружку, к печке, а старуху уложила Марьюшка на лавке, мяткой напоила, дала ей сухие валенки, накрыла полушубком, — кашель забил старуху… Да как же не пожалеть: старый человек старуха, и делу такому потрудились, свяченую вербу привезли.
Солнце играет на сараях ранним, румяным светом, — пасхальное что-то в нем, напоминает яички красные.
Лужа совсем разлилась, как море, половина саней в воде. И в луже розовый свет-румянчик. Верба в санях проснулась, румяная, живая, и вся сияет. Розовые вербешки стали! Куры глядят на вербу, вытягивают шейки, прыгают на санях, хочется им вербешек. И в луже верба, и я, и куры, и старенькие сани, и розовое солнце, и гребешок сарая, и светлое-голубое небо, и все мы в нем!.. — и все другое, чем на земле… какое-то новое-другое. Ночью был дождь, пожалуй, — на вербе сверкают капельки. Утки с криком спешат на лужу, мычит корова, весело ржет Кавказка… — Может быть, радуются вербе?.. И сама верба радуется, веселенькая такая, в румяном солнце. Росла по Сетуньке, попала на нашу лужу, и вот — попадет к Казанской, будут ее кропить, будет светиться в свечках, и разберут ее по рукам, разнесут ее по домам, по всей нашей Калужской улице, по Якиманке, по Житной, по переулочкам… — поставят за образа и будут помнить…
Горкин с Михал-Ивановым стараются у вербы: сани надо опорожнить, домой торопиться надо. Молодцы приносят большую чистую кадь, низкую и широкую, — «вербную», только под вербу ходит, — становят в нее пуками вербу, натуго тискают. Пушится огромный куст, спрятаться в него можно. Насилу-насилу подымают, — а все старики нарезали! — ставят на ломовой полок: после обеда свезут к Казанской. Верба теперь высокая, пушится над всем двором, вишневым блеском светится. И кажется мне, что вся она в серых пчелках с золотистыми крылышками пушистыми. Это вот красо-та‑а!..
Михал-Иванов торопится, надо бы закупить для Праздника, чайку-сахарку-мучицы, да засветло ко дворам поспеть, — дорога-то совсем, поди, разгрязла, не дай-то Бог! Горкин ласково обнадеживает: «Господь донесет, лес твой не убежит, все будет». Жалко мне Михал-Иванова: в такую-то даль поедет, в дрему-дремучую! если бы с ним поехать!.. — и хочется, и страшно.
Старуха его довольна, кланяется и кланяется: так-то уж одарили-обласкали! Сестрицы ей подарили свою работу — веночек на образа, из пышных бумажных розанов. Матушка как всегда — кулечек припасцу всякого, старого бельеца и темненького ситчику в горошках, а старику отрезок на рубаху. Марьюшка — восковую свечку, затеплить к Празднику: в лесу-то им где же достать-то. Отец по делам уехал, оставил им за орехи и за вербу и еще три рубля за белку.
— Три ру-бля‑а!.. Уж так-то одарили-обласкали!.. Трифоныч манит старика и ведет в закоулочек при лавке, где хранится зеленый штоф, — «на дорожку, за угольки». Михал-Иванов выходит из закоулочка, вытирает рот угольным рукавом, несет жирную астраханскую селедку, прихватил двумя пальцами за спинку промасленной бумажкой, — течет с селедки, до чего жирная, — прячет селедку в сено. И Горкин сует пакетик — чайку-сахарку-лимончик. Отъезжают, довольные. Старик жует горячий пирог с кашей, дает откусить своей старухе, смеется нам белыми зубами и белыми глазами, машет нам пирогом, веселый, кричит — «дай, Господи… гу-ляй, верба!..». Все провожаем за ворота.
Я бегу к белочке, посмотреть. Она на окне в передней. Сидит — в уголок забилась, хвостом укрылась, бусинки-глазки смотрят, — боится, не обошлась еще: ни орешков, ни конопли не тронула. Клетка железная, с колесом. Может быть, колеса боится? Пахнет от белки чем-то, ужасно крепким, совсем особенным… — дремучим духом?..
В каретном сарае Гаврила готовит парадную пролетку — для «вербного катанья», к завтрему, на Красной Площади, где шумит уже вербный торг, который зовется — «Верба». У самого Кремля, под древними стенами. Там, по всей площади, под Мининым-Пожарским, под храмом Василия Блаженного, под Святыми Воротами с часами, — называются «Спасские Ворота», и всегда в них снимают шапку — «гуляет верба», великий торг — праздничным товаром, пасхальными игрушками, образами, бумажными цветами, всякими-то сластями, пасхальными разными яичками и — вербой. Горкин говорит, что так повелось от старины, к Светлому Дню припасаться надо, того-сего.
— А господа вот придумали катанье. Что ж поделаешь… господа.
В каретном сарае сани убраны высоко на доски, под потолок, до зимы будут отдыхать. Теперь — пролетки: расхожая и парадная. С них стянули громадные парусинные чехлы, под которыми они спали зиму, они проснулись, поблескивают лачком и пахнут… чудесно-весело пахнут, чем-то новым и таким радостно-заманным! Да чем же они пахнут?.. Этого и понять нельзя… — чем-то… таким привольным-новым, дачей, весной, дорогой, зелеными полями… и чем-то крепким, радостей горечью какой-то… которая… нет, не лак. Гаврилой пахнут, колесной мазью, духами-спиртом, седлом, Кавказкой, и всем. что было, из радостей. И вот, эти радости проснулись. Проснулись — и запахли, запомнились; копытной мазью, кожей, особенной душистой, под чернослив с винной ягодой… заманным, неотвязным скипидаром, — так бы вот все дышал и нюхал! — пронзительно-крепким варом, наборной сбруей, сеном и овсецом, затаившимся зимним холодочком и пробившимся со двора теплом с навозцем, — каретным, новым сараем, гулким и радостным… И все это спуталось-смешалось в радость.
Гаврила ставит парадную пролетку — от самого Ильина с Каретного! — на козлики и начинает крутить колеса. Колеса зеркально блещут лаковым блеском спиц, пускают «зайчиков» и прохладно-душистый ветерок, — и это пахнет, и веет-дышит. Играют-веют желто-зеленые полоски на черно-зеркальном лаке, — самая красота. И все мне давно знакомо — и ново-радостно: сквозная железная подножка, тонкие, выгнутые фитой оглобли с чудесными крепкими тяжами, и лаковые крылья с мелкою сеткой трещинок, и складки верха, лежащие гармоньей… но лучше всего — колеса, в черно-зеркальных спицах. Я взлезаю на мягко-упругое сиденье, которое играет, покачивает зыбко, нюхаю-нюхаю-вдыхаю, оглаживаю мою скамеечку, стянутую до пузиков ремнями, не нагляжусь на коврик, пышно-тугой и бархатистый, с мутными шерстяными розами. Спрыгиваю, охаживаю и нюхаю, смотрюсь, как в зеркало, в выгнутый лаковый задок. Конечно, она — живая, дышит, наша парадная «ильинка». Лучше ее и нет, — я шарабана не считаю: этот совсем особый, папашенькин.
Гаврила недоволен: на гулянье в колясках ездят, а то в ланде, а с пролеткой квартальные в самый конец отгонят, где только сбродные. Недоволен и армяком, и шляпой. Чего показывать, — экая невидаль, пролетка! Набаловался у богачей, «у князя в кибриолетах ездил». Я говорю Гавриле — «пошел бы к князю!» — так Антипушка ему говорит. Гаврила сердится: «ты еще мне посмейся!»
Не годится он в богатые кучера, ус не растет. Антипушка уж советовал: «натри губу копытной мазью — целая грива вырастет». Пожалуй, скоро уйдет от нас, Василь-Василич говорил: «Маша наша сосваталась с Денисом, только из-за нее и жил». Теперь и наша «ильинка» нехороша. А как, бывало, прокатывал-то на Чаленьком, вся улица смотрела, — ветру, бывало, не угнаться.
Идем с Горкиным к Казанской, — до звона, рано: с вербой распорядиться надо. Загодя отвезли ее, в церкви теперь красуется. Навстречу идут и едут с «Вербы», несут веночки на образа, воздушные красные шары, мальчишки свистят в свистульки, стучат «кузнецами», дудят в жестяные дудки, дерутся вербами, дураки. Идут и едут, и у всех вербы, с листиками брусники, зиму проспавшей в зелени под снегом.
И церкви, у левого крылоса, — наша верба, пушистая, но кажется почему-то ниже. Или ее подстригли? Горкин говорит — так это наша церковь высокая. Но отчего же у лужи там… — небо совсем высокое? Я подхожу под вербу, и она делается опять высокой. Крестимся на нее. Раздавать не скоро, под конец всенощной, как стемнеет. Народу набирается все больше. От свещного ящика, где стоим, вербы совсем не видно, только верхушки прутиков, как вихры. Тянется долго служба. За свещным ящиком отец, в сюртуке, с золотыми запонками в манжетах, ловко выкидывает свечки, постукивают они, как косточки. Мно го берут свечей. Приходят и со своими вербами, но своя как-то не такая, не настоящая. А наша настоящая, свяченая. О‑чень долго, за окнами день потух, вербу совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку: «спишь, капитан… сейчас, скоро». Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках, рядом, слышно, как он шепчет: «Обчее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже…» Дремотно. И слышу вдруг, как из сна «О‑бщее воскресение… из мертвых воздвиг еси Лазаря, Христе Боже… Тебе, победителю смерти, вопием… осанна в вышних!» Проспал я?.. Впереди, там, где верба, загораются огоньки свечей. Там уже хлещутся, впереди… — выдергивают вербу, машут… Там текут огоньки по церкви, и вот — все с вербами. Отец берет меня на руки и несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе — к чудесному нашему кусту. Куст уже растрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивает мальчишек, стегает вербой по стрижевым затылкам, шипит: «не напирай, про всех хватит…» О. Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, всю в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан Христос на осляти, каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями, — «вайи»! — долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком… дремучим духом?.. — где-то горят вербешки. Светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают, светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах на ризах. По стенам и вверху, под сводом, ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба, из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, — как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой Сетуньке, ехала по лесам, ночевала в воде в овраге, мыло ее дождем… и вот — свяченая, в нашей церкви, со всеми поет «Осанну», Конечно, поет она: все, ведь, теперь живое, воскресшее, как Лазарь… — «Общее Воскресение».
Смотрю на свечку, на живой огонек, от пчелок. Смотрю на мохнатые вербешки… — таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. — «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «а Михал-Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку… — «давно дома, спит уж… за свечкой-то гляди, не подожги… носом клюешь, мо-лельщик…» Слышу вдруг треск… — и вспыхнуло! — вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный-горьковатый запах, чудесный, вербный! и в этом запахе что-то такое светлое, такое… такое… — было сегодня утром, у нашей лужи, розовое-живое в вербе, в румяном, голубоватом небе… — вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку: вот затрещит, осветит, будет опять такое… Вспыхивает, трещит… синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает… неуловимо это, как тонкий сон.
Ю. Л. Кутыриной
На святой
— Вот погоди, косатик, придет Святая, мы с тобой в Кремль поедем, покажу тебе все святыньки… и Гвоздь Господень, и все соборы наши издревнии, и Царя-Колокола покажу, и потрезвоним, поликуем тогда с тобой… — сколько раз обещался Горкин. — маленько подрастешь, тебе и понятней будет. Вот, на Святой и сходим.
Я подрос, теперь уж не младенец, а отроча, поговел-исправился, как большие, и вот — Святая.
Я просыпаюсь, радостный, меня ослепляет блеском, и в этом блеске — веселый звон. Сразу я не могу понять, отчего такой блеск и звон. Будто еще во сне — звонкие золотые яблочки, как в волшебном саду, из сказки. Открываю опять глаза — и вдруг вспоминаю: да это Пасха!.. яркое утро-солнце, пасхальный звон!.. Розовый накомодник, вышитый белыми цветами… — его только на Пасху стелят! — яркие розы на иконе… Пасха!.. — и меня заливает радостью. На столике у постели — пасхальные подарки. Серебряное портмоне-яичко на золотой цепочке, а внутри радостное-пунцовое, и светится золотой и серебрецо, — подарил мне вчера отец. Еще — большое сахарное яйцо, с золотыми большими буквами — X. и В., а за стеклышком в золотом овале, за цветами бессмертника, над мохом, — радостная картинка Христова Воскресения. И еще — золотисто-хрустальное яичко, граненое все, чудесное! если в него смотреть, светится все, как в солнце, — веселое все, пасхальное. Смотрю через яичко, — ну, до чего чудесно! Вижу окошечки, много солнц, много воздушных шариков, вместо одного, купленного на «Вербе»… множество веток тополя, много иконок и лампадок, комодиков, яичек, мелких, как зернышки, как драже. Отнимаю яичко, вижу: живая комната, красный шар, приклеившийся к потолку, на комоде пасхальные яички, все вчера нахристосовал на дворе у плотников, — зеленые, красные, луковые, лиловые… А вон — жестяная птичка, в золотисто-зеленых перышках, — «водяной соловей, самопоющий»; если дуть через воду в трубочку, он начинает чвокать и трепетать. Пасха!.. — будет еще шесть дней, и сейчас будем разговляться, как и вчера, будет кулич и пасха… и еще долго будем, каждое утро будем, еще шесть дней… и будет солнце, и звон-трезвон, особенно радостный, пасхальный, и красные яички, и запах пасхи… а сегодня поедем в Кремль, будем смотреть соборы, всякие святости… и будет еще хорошее… Что же еще-то будет?..
Еще на Страстной выставили рамы: и потому в комнатах так светло. За окнами перезвон веселый, ликует Пасха. Трезвонят у Казанской, у Ивана-Воина, дальше где-то… — тоненький какой звон. Теперь уж по всей Москве, всех пускают звонить на колокольни, такой обычай — в Пасху поликовать. Василь-Василич все вчера руки отмотал, звонивши, к вечеру заслабел, свалился. А что же еще, хорошее?..
За окнами распустился тополь, особенный — духовой. Остренькие его листочки еще не раскрутились, текут от клея, желтенькие еще, чуть в зелень; к носу приложишь — липнут. Если смотреть на солнце — совсем сквозные, как пленочки. Кажется мне, что это и есть масличная ветка, которую принес голубь праведному Ною, в «Священной Истории», всемирный потоп когда. И Горкину тоже кажется: масличная она такая и пахнет священно, ладанцем. Прабабушка Устинья потому и велела под окнами посадить, для радости. Только отворишь окна, когда еще первые листочки, или после дождя особенно, прямо — от духу задохнешься, такая радость. А если облупишь зубами прутик — пахнет живым арбузом. Что же еще… хорошее?.. Да, музыканты придут сегодня, никогда еще не видал: какие-то «остатки», от графа Мамонова, какие-то «крепостные музыканты», в высоких шляпах с перышком сокольим, по старинной моде, — теперь уж не ходят так. На Рождестве были музыканты, но те простые, которые собирают на винцо; а эти — Царю известны, их поместили в богадельню, и они старенькие совсем, только на Пасху выползают, когда тепло. А играют такую музыку-старину, какой уж никто не помнит.
В передней, рядом, заливается звонко канарейка, а скворца даже из столовой слышно, и соловья из залы. Всегда на Пасху птицы особенно ликуют, так устроено от Творца. Реполов у меня что-то не распевается, а торговец на «Вербе» побожился, что обязательно запоет на Пасху. Не подсунул ли самочку? — трудно их разобрать. Вот придет Солодовкин-птичник и разберет, знает все качества.
Я начинаю одеваться — и слышу крик — «держи его!.. лови!..». Вскакиваю на подоконник. Бегут плотники в праздничных рубахах, и Василь-Василич с ними, кричит: «за сани укрылся, сукин кот!.. под навесом, сапожники видали… тащи его, робята!..» Мешает амбар, не видно. Жулика поймали?.. У амбара стоит в новенькой поддевке. Горкин, покачивает что-то головой, жалеет словно. Кричит ребятам: «полегши, рубаху ему порвете!.. ну, провинился — покается…» — слышу я в форточку: — «а ты, Григорья, не упирайся… присудили — отчитывайся, такой по рядок… пострадай маленько». Я узнаю голос Гришки: «да я повинюсь… да вода холодная-ледяная!..» Ничего я не понимаю, бегу во двор.
А все уже у колодца. Василь-Василич ведра велит тащить, накачивать… Гришка усмешливо косит глазом, как и всегда. Упрашивает:
— Ну, покорюсь! только, братцы, немного, чур… дайте хоть спинжак скинуть да сапоги… к Пасхе только справил, изгадите.
— Ишь какой!.. — кричат, — спинжак справил, а Бога обманул!..Нет, мы те так упарим! Я спрашиваю Горкина, что такое.
— Дело такое, от старины. И прабабушка таких купала, как можно спущать! Скорняк напомнил, сказал робятам, а те и ради. Один он только не поговел, а нас обманул: отговелся я, говорит. А сам уходил со двора, отпускал его папашенька в церковь, поговеть, на шестой. Ну, я, говорит отговемши… а мы его все поздравили — «телу во здравие, душе во спасение»… А мне сумнение: не вижу и не вижу его в церкви! А он, робята дознали, по полпивным говел! И в заутреню вчера не пошел, и в обедню не стоял, не похристосовался. Я Онтона посылал — смени Гришу, он у ворот дежурит, пусть обедню хоть постоит, нельзя от дому отлучаться в такую ночь, — в церкви все. Не пошел, спать пошел. Робята и возревновали, Василь-Василич их… — поучим его, робята! Ну, папашеньку подождем, как уж он рассудит.
Гришка стоит босой, в розовой рубахе, в подштанниках. Ждут отца. Марьюшка кричит — «попался бычок на ве ревочку!». Никто его не любит, зубастый очень. А руки — золото. Отец два раза его прогонял и опять брал. Никто так не может начистить самовар или сапоги, — как жар горят. Но очень дерзкий на всякие слова и баб ругает. Маша высунулась в окно в сенях, кричит, тоже зубастая: «ай купаться хочете, Григорий Тимофеевич?» Гришка даже зубами скрипнул. Антипушка вышел из конюшни, пожалел: «тебя, Григорий, нечистый от Бога отводит… ты покайся, — может, и простят робята». Гришка плаксиво говорит: «да я ж ка-юсь!.. пустите, ребята, ради Праздника!..» — «Нет, говорят, начали дело — кончим». И Василь-Василич не желает прощать: «надо те постращать, всем в пример!» Приходит отец, говорит с Горкиным. — Правильно, ребята, ва-ляй его!.. Говорят: «у нас в деревне так-то, и у вас хорошо заведено… таких у нас в Клязьме-реке купали!» Отец велит: «дать ему ведра три!» А Гришка расхрабрился, кричит: «да хошь десяток! погода теплая, для Пасхи искупаюсь!» Все закричали — «а, гордый он, мало ему три!» Отец тоже загорячился: «мало — так прибавим! жарь ему, ребята, дюжинку!..» Раз, раз, раз!.. Ухнул Гришка, присел, а его сразу на ноги. Вылили дюжинку, отец велел в столярную тащить — сушиться, и стакан водки ему, согреться. Гришка вырвался, сам побежал в столярную. Пошли поглядеть, а он свистит, с гуся ему вода. Все дивятся, какой же самондравный! Говорят: «В колодце отговелся, будет помнить». Горкин только рукой мах нул, — «отпетый!». Пошел постыдить его. Приходит и говорит:
— Покаялся он, ребята, — поплакал даже, дошло до совести… уж не корите.
А мне пошептал: «папашенька полтинник ему пожаловал, простил». И все простили. Одна только Маша не простила, что-то грязное ей сказал будто. Вышел Гришка перед обедом, в новую тройку вырядился, она ему и кричит, играет зубками: «с легким паром, Григорий Тимофеич, хорошо ли попарились?» Опять стали его тачать, а потом обошлись, простили. Вечерком повели в трактир, сделали мировую, водчонки-чайку попили.
После обеда, на третий день, едем в Кремль с Горкиным, и Антипушка с нами увязался. Поручили Кривую солдату-сторожу при дворце, знакомый Горкина оказался, и похристосовались с ним яичком. Горкина вся-то Москва знает, старинный хоругвеносец он, и в Кремль мы каждую Пасху иллюминацию делаем, — ну, все и знают.
У самого старинного собора, где наши Цари корону надевают, встречаем вдруг Домну Панферовну с Анютой, ходили-то летось к Троице. Как родным обрадовались, яичками поменялись-похристосовались, — у Горкина в сумочке запасец их, с обменными-то на всех хватит. Я было задичился с Анютой целоваться, и она тоже задичилась, а нас заставили. Ее Домна Панферовна держала, а меня Горкин подталкивал. А потом ничего, ручка за ручку ходили с ней. Такая она нарядная, в кисейке розовой, а на косичках по бантику. Горкин ангельчиком ее назвал. И все она мне шептала — «а что, пойдем опять к Серги-Троице?.. попроси бабушку». Сердце у меня так и заиграло, — опять бы к Троице! Посмотрели соборы, поклонились мощам-Святителям, приложились ко всем иконам, помолились на Гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклышку только приложились. Народу… — полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире, все-то ей тут известно, какие иконы-мощи, Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал: показала кровь царевича убиенного, в чашечке, только уж высохло, одно пятно. А это Димитрия Царевича, мощи его во гробничке. И хрустальные Кресты Корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена, — Горкин нам объяснял, — а Домна Панферовна заспорила: не пророк он, а патриарх! А народ ходит благолепно, радуется на все, так все в говорят: «вот где покой-отдохновение, душа гуляет». И это верно, все забывается, будто и дом ненужен… ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые: разговоримся — и похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей Домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать, погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а Царские Врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь царство небесное открылось. Никого в алтаре, тихо, голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь.
В одной церковке, под горой, смотрели… — там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит:
— Вот посидите, тихо, поглядите в алтарик наш… ангелы будто ходят.
Посидели мы тихо-тихо, задумались. И такой звон над нами, весь Кремль ликует. А тут — тишина‑а… только лампадки теплятся. И так хорошо нам стало — смотреть в алтарик… и я там белое что-то увидал, будто дымок кисейный… будто там Ангел ходит! И все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком и все ему по яичку дали.
А потом царевы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного! Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрит, и все молчат, Горкин и говорит, гробам-то:
— Христос Воскресе, благоверные Цари-Царицы, россииския державы! со святыми упокой вам.
И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это — самого Ивана Грозного гроб! И другие начали класть яички, понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «вы настояще-православные, хороший пример даете». И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались, — все у меня губы обметало, очень усы у них колючие.
А в самом главном соборе, где чудотворная икона «Владимирская», Богородицына, видели святой Артос на аналое, помолились на него и ко краешку приложились, — такая великая просфора, мне не поднять, с пуд, пожалуй. Антипушка не знал, что такие святой Артос, а я‑то знал, будто это Христос, — Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться, ужасная она спорщица, — хотела устыдить Горкина. Не Христос это, говорит, а трапеза Христова! Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно-благолепно: «не мечите, говорит, бисера, не нарушайте благолепия церковного ожесточением в пустоту!» — Горкин его очень потом хвалил за премудрость, — «вы слышали звон, да не с колокола он… это святые Апостолы, после Христа, всегда вместе вкушали трапезу, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает… для Него уделяли! и сие есть воспоминание: Артос — хлеб Христов, заместо Христа!» Горкин и погрозился пальцем на Домну Панферовну: «что?!. взаместо Хрисга!» А она даже возликовала, упрямая такая, «все равно, говорит, трапеза!» Даже монашек головой покачал: «ну, говорит, у‑пориста ты, мать, как бычья кожа!»
Потом мы Царя-Колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него, в пещерку, для здоровья, где у него бок расколот, и покричали-погукались там, гу-лко так. И Царя-Пушку видели. Народ там говорил, — всю Москву может разнести, такая сила. Она-то Наполеона и выгнала-настращала, и все пушки он нам оставил, потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку-простоту: он и на Царя-Пушку помолился! А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй, — на пушках это бывает, знающие там говорили, а он за святыньку принял!
И на Иван-Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого проухи лопнут! Ну, мы в малые попросили поблаговестить, — и то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла, толстая она женщина, сырая, а юбка у нпей, как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило, — ну, дальше не стали лезть, компанию чтобы не расстраивать.
Нашли мы Кривую — домой ехать, а нас Домна Панферовна к себе звать — «не отпущу и не отпущу!» Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марона, на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну, и мы покатали за компанию. — знакомые оказались, псаломщик с детьми и о. дьякон, с большим семейством, все барышни, к нам они в бани ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек, счастье такое выпало, все даже удивлялись.
Такого ласкового семейсгва и не найти, все так и говорили. Пасху сливошную пробовали у них, со всякими цукатками, а потом у псаломщика кулич пробовали, даже Домна Панферовна обиделась. Ну, у ней посидели. А у ней полон-то стол пасхальный, банные гостьи надарили и кого она от мозолей лечит, и у кого принимает, — бабка она еще, повитуха. У ней шоколадную пасху пробовали, и фисташковую-сливошную, и бабу греческую, — ну закормила. А уж чему подивились — так это святостям. Все стенки у ней в образах, про все-то она святыньки рассказала, про все-то редкости. Горкин дивился даже, сколько утешения у ней: и песочек иорданский в пузыречках, и рыбки священные с Христова Моря, и даже туфли старинные-расстаринные, которые Апостолы носили. Ей грек какой-то за три рубли в Иерусалиме уступил-божился… Апостолы в них ходили, ему старые турки сказывали, а уж они все знают, от тех времен осталися туфли те очень хорошо знают… Она их потому и пристроила на стенку, под иконы. Очень нас те священные туфли порадовали! Ну, будто церковь у ней в квартирке: восемь мы лампадок насчитали. Попили у ней чайку, ос святыньки, а у ней — и сравненья нет. Мне Анюта шепнула, — бабушка ей все святости откажет, выйдет она замуж и тоже будет хранить, для своих деток. Так мы сдружались с ней, не хотелось и расставаться.
Приезжаем домой под вечер, а у нас полон-то дом народу: старинные музыканты приехали, которые — «графа Мамонова крепостные». Их угостили всякими закусочками… — очень они икорку одобряли и семушку, — потом угостили пасхой, выкушали они мадерцы — и стали они нам «медную музыку» играть. И правда, таких музыкантов больше и нет теперь. Все они старые старички, четверо их осталось только, и все с длинными седыми-седыми бакенбардами, как у кондитера Фирсанова и будто они немцы: на всех зеленые фраки с золотыми пуговицами, крупными, — пожалуй, в рублик, — а на фраках, на длинных концах, сзади, — «Мамоновы горбы», львы, и в лапах у них ключи, и все из золота. Все — как играть — надели зеленые, высокие, как цилиндры, шляпы с соколиными перьями, как у графа Мамонова играли. И только у одного старичка туфельки с серебряными пряжками, — при нас их и надевал, — а у других износились, не осталось, в сапожках были. И такие все старые, чуть дышат. А им на трубах играть-дуть! И все-таки хорошо играли, деликатно. Вынули из зеленых кожаных коробок медные трубы, ясные-ясные… — с ними два мужика ходили, трубы носить им помогали, для праздника: только на Пасху старички ходят, по уважаемым заказчикам, у которых «старинный вкус, и могут музыку понимать», на табачок себе собирают… — сперва табачку понюхали и почихали до сладости, друг дружку угощали, и так все вежливо-вежливо, с поклончиками, и так приветливо угощали — «милости прошу… одолжайтесь…» — и манеры у них такие вальяжные и деликатные, будто они и сами графы, такого тонкого воспитания, старинного. И стали играть старинную музыку, — называется «пи-ру-нет». А чтобы нам попонятней было, вежливо объяснили, что это маркиза с графом на танцы выступают. Одна — большая труба, а две поменьше, и еще самая маленькая, как дудка, черненькая, с серебрецом. Конечно, музыка уж не та, как у графа Мамонова играли: и духу не хватает, от старости, и кашель забивает, и голос западает у трубы-то, а ничего, прилично, щеки только не надуваются.
Ну, им еще поднесли мадерцы для укрепления. Тогда они старинную песенку проиграли, называется — «романез-пастораль» которую теперь никто не поет — не знает. Так она всем понравилась, и мне понравилась, и я ее заучил на память, и отец после все ее напевал:
Един млад охотник
В поле разъезжает,
В островах лавровых
Нечто примечает,
Венера-Венера,
Нечто примечает.
Один старичок пел-хрипел, а другие ему подыгрывали.
Деву сколь прекрасну,
На главе веночек,
Перси белоснежны,
Во руке цветочек,
Венера-Венера.
Во руке цветочек.
Так и не доиграли песенку, устали. Двоих старичков положили на диван и дали капелек… И еще поднесли, мадерцы и портвейнцу. Навязали полон кулек гостинцев и отвезли на пролетке в богадельню. Десять рублей подарил им отец, и они долго благодарили за ласку, шаркали даже ножками и поднимали высокие шляпы с перьями. Отец сказал:
— Последние остатки!..
В субботу на Святой монахини из Страстного монастыря привозят в бархатной сумочке небольшой пакетец: в белой, писчей бумаге, запечатанной красным сургучом, — ломтик святого Артоса. Его вкушают в болезни и получают облегчение. Артос хранится у нас в киоте, со святой водой, с крещенскими и венчальными свечами.
После светлой обедни, с последним пасхальным крестным ходом, трезвон кончается — до будущего года. Иду ко всенощной — и вижу с грустью, что Царские Врата закрыты. «Христос Воскресе» еще поют, светится еще в сердце радость, но Пасха уже прошла: Царские Врата закрылись.
Егорьев день
Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась поздняя, захватила Егорьев День, и, накануне его, во вторник, к нам прилетели ласточки. К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты, а только слыхал Антипушка на зорьке верезг. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев День. И правда: пришел от обедни Горкин и говорит: у Казанской на колокольне водятся, по-шла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то, пустые торчат скворешни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно, обидели нас скворцы, — с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам, загодя говорил ребятам чистить скворешницы: будут у нас скворцы — все будет хорошо. «А как не прилетят?..» — спросишь его, бывало, а он молчит. Антипушка воздыхает — скворцов-то нет: говорит все — «вот и пустота». Отец, за делами, о пустяках не думает, и то удивился — справился: что-то нонче скворцов не слышно? Да вот, не прилетели. И запустели скворешницы. Не помнил Горкин: давно так не пустовали, на три скворешни все хоть в одной да торчат, а тут — как вымело. Я ему говорю: «а ты купи скворцов и посади в домики, они и будут». — «Нет, говорит, насильно не годится, сами должны водиться, а так делу не поможешь». Какому делу? Да вот, скворцам. После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели: чуяли пустоту. Поверье это. А, может, и правду чуяли. Собаки чуют. Наш Бушуй еще с Пасхи стал подвывать, только ему развыться не давали: то-лько начнет, а его из ведра водой, — «да замолчи ты!..». А скоро и ведра перестал бояться, все ночи подвывал.
Под Егорьев День к нам во двор зашел парень, в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане внакидку и в поярковой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, — пастухов работник, что против нас, только что из деревни, какой-то «зубцовский», дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, — завтра, мол, коров погонят, пустите ли коровку в стадо. Марьюшка дала ему пару яиц, а назавтра пообещала молочной яишницей накормить, только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Чего-то пошепталась, а потом, я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, чего это ей дает, а она чего-то затаилась, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке «креста» давала, в благословение, в Крещенье еще спекла, — печеного «креста», — так уж от старины ведется, чтобы с телком была.
Накануне Егорьева Дня Горкин наказывал мне не проспать, как на травку коров погонят, — «покажет себя пастух наш». Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал.
И вот, в самый Егорьев День, на зорьке, еще до солнышка, впервые в своей жизни, радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, — не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, — вышел на мостовую пеперед домом и заиграл. У него четверо пастухов-подручных, они и коров гоняют, а он только играет для почину, в Егорьев День. И все по улице выходят смотреть-послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он «в последний раз», — сам так и объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так — впоследок. «Да так… — говорит, — будя, наигрался…» Невесело так сказал. Сказал уж после, как случилась история…
И все хвалили старого пастуха, так все и говорили: «вот какой приверженный человек… любит свое дело, хоть и богат стал, и гордый… а делу уступает». Тогда я всего не понял.
В то памятное утро смотрел и я в открытое окно залы, прямо с теплой постели, в одеяльце, подрагивая от холодка зари.
Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца, поблескивали верхние окошки. Вот, отворились дикие ворота Пастухова двора, и старый, седой пастух-хозяин, в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и в высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи-шафера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушкн свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щеки, — и я вздрогнул от первых звуков: рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало. Но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей… — и вдруг заиграл веселое… и мне стало раздольно-весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух все стоял-играл. Он играл в небо за вашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. Когда обрывалась песня, и пастух переводил дыханье, слышались голоса на улице:
— Вот это ма-стер!.. вот доказал-то себя Пахомыч!.. ма-стер… И откуда в нем духу столько!..
Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история.
С Пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам, в шляпе с петушьим перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный. А этот был повыше, стройный и молодой, и было в нем что-то смелое, и будто он слушает старика прищурясь, — что-то усмешливое-лихое. Так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу.
— А теперь, хозяин, дай поиграю я… — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок, — послушают твои коровки, поприучаются.
— Ну, поиграй, Ваня… — сказал старик, — послушаю твоей песни.
Проходили коровы, все гуще, гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой — и начал…
Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобно, разливное, — не старикову, другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно, сладостно было слушать, — так бы вот и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало, — вдруг перешел на такую лихую плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам певун в лапотках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами. И пошла плясать улица и ухать, пошло такое… — этого и сказать нельзя. Смотревшая из окошка Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило, — все смеялись. А певун выплясывал лихо в лапотках, под дудку, а упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история…
Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе:
— И откуда у тебя, подлеца, такая душа-сила! Шабаш, больше играть не буду, играй один!
И разбил свой рожок об мостовую.
Так это всем понравилось!.. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Митриев трактир — угощать певуна водочкой и чайком.
Долго потом об этом говорили. Рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже, — послушать, как играет чудесный «зубцовец» на свирели.
После Горкин мне пересказывал песенку, какую играл старый пастух, и я запомнил ту песенку. Это веселая песенка, ее и певун играл, бойчей только. Вот она:
…Пастух выйдет на лужок.
Заиграет во рожок.
Хорошо пастух играет —
Выговаривает:
Выгоняйте вы скотинку
На зелену луговинку!
Гонят девки, гонят бабы,
Гонят малые ребята,
Гонят стары старики,
Мироеды-мужики
Гонят старые старушки,
Мироедовы женушки,
Гонит Филя, гонит Пим,
Гонит дяденька Яфим,
Гонит бабка, гонит дед,
А у них и кошки нет,
Ни копыта, ни рога,
На двоих одна нога!..
Ну, все-то, все-то гонят… — я Марьюшка наша проводила со двора свяченой вербой нашу красавицу. И Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, и с Житной, и от Крымка, и от Серпуховки, и с Якиманки, — со всей замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва. И тогда был Егорьев День, и теперь еще… — будет в до кончины века. Горкин мне сказывал:
— Москва этот день особь празднует: Святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу… потому на Москве и писан.
— Как на Москве писан?..
— А ты пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана, на гербу: сам Святой Егорий… наш, стало быть, московский. С Москвы во всю Росею пошел, вот откуда Егорьев День. Ему по всем селам-деревням празднуют. Только вот господа обижаться стали… на коровок.
— Почему обижаться, на коровок?..
— Таки капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору князю Долгорукову… воспретить гонять по Москве коров. В «Ведомостях» читали, скорняк читал. Как это, говорят, можно… Москва — и такое безобразие! чего про нас англичаны скажут! Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И забодать, вишь, могут. Ну, чтобы воспретил. А наш князь Долгоруков самый русский, любит старину а написал на их бумаге: «по Кузнецкому у меня и не такая скотина шляется», — и не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился.
Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух — насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы и поговорили по душам. Оказалось, — сирота он, тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, не ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел, и еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналось. Он и захаживал. И она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось, в самую Радуницу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть, — думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дите, только высокий и силач, — совсем как Федя-бараночник, душевный, кроткий совсем, и ему Горкин от Писания говорил, про святых мучеников. Вот он и напел нам песенку, я ее и запомнил. Откуда она? — я и в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть — длинная:
Эх, и гнулое ты деревцо-круши-нушка-а‑а…
Куды клонишься — так и сло-мишься-а‑а…
Эх, и жись моя ты — горькая кручи-нушка-а‑а…
Где поклонишься — там и сло-мишься-а‑а…
И мало слов, а так-то жалостливо поется.
С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. Впросонках слышу, и радостно мае во сне. И реполов мой распелся, которого я купил на «Вербе»; правильный оказался, не самочка-обманка. Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишкн из маленьких книжечек Ступина, и другие, какие любил насвистывать-напевать отец? Помню, очень мне нравились стишки— «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», и еще — «Румяной зарею покрылся восток». И вот, этой весной навязалась мне на язык короткая песенка, — все, бывало, отец насвистывал:
Ходит петух с курочкой,
А с гусыней гусь,
Свинка с поросятками,
А я все томлюсь.
Навязалась и навязалась, не может отвязаться. Я с ней и засьпал, и вставал, и во сне она слышалась, впросонках, будто этой мой реполов. Горкин даже смеялся: «ну, потомись маленько… все уж весной томятся». И это правда. И томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься, позвали коновала, он им уши надрезал, крови дурной повыпустил. И Кривой даже выпустил, хоть и старенькая она: надо, говорит. Стали жуки к вечеру носиться, «майские» — называются. Гришка одного картузом подшиб, самого первого жука, поглядел, плюнул и раздавил сапогом, — «ишь, говорит, сволота какая, а тоже занимается». Ну глупый. Навозные мухи так тучами и ходят, все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны, отец стал такой веселый, все бегает, по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый, так и машет чесучовый его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флердоранжем, нащиплет щечки и даст гривенничек на гостинцы, так, ни с чего. И все-то песенки, песенки, все свистит. А постом грустный все был и тяжелые сны видал.
А тут повалили нам подряды, никогда столько не было. В самый Егорьев День, на Пасхе, пришло письмо — мост большой строить заказали под Коломной. И еще, — очень отец был рад, — главный какой-то комитет поручил ему парадные «места» ставить на Страстной площади, где памятник Пушкина будут открывать. И в «Ведомостях» напечатали, что будет большое торжество на Троицу, 8 числа июня, будут открывать Пушкина, памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались — такая честь! Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, — такая честь! И нам почетную ложу обещали — Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина, сестрицы романцы его пели — про «черную шаль» и еще про что-то. И я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию». Пропел Горкину, и он похвалил, — «ничего, говорит, отчетливо».
Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать, летний народ придет наниматься, как уж обыкли, на Фоминой, после Радуницы. Кой-чего с зимниками начали работать. С зари до зари отец по работам ездит. Бывало, на Кавказке, верхом, туда-сюда, ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, Кавказка набила спину, три недели не подживет. А Стальную седлать — и душа-то к ней не лежит, злая она, «Кыргыз», да и пуглива, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековал помягче: попробует на днях за город, дачу снимать поедет для нас под Воронцовым.
На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василь-Василич с радости закрутил, но к Фоминой оправится. И Горкин ничего, милостиво к нему: «пусть свое отгуляет, летом будет ему жара».
Вечером Егорьева Дня мы сидим в мастерской, и скорняк сказывает вам про Егория-Победоносца, Скорняк большой книгочий, все у него святые книги, в каких-то «Проломных Воротах» покупает, по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист-картинку, старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинке, ежели на любителя. Из особого уважения подарил, — за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже с скорником. А потом стал что-то приглядываться к картинке…
Стали мы все разглядывать и видим: написан иа листе, на белом конь, как по строгому канону пишется, Егорий — колет Змия копием в брюхо чешуйное. Горкин потыкал пальцем в Егорьеву главку и говорит строго-раздумчиво:
— А почему же сияния святости округ главки нет? Не святая картинка это, а со-блаз!.. Староверы так не пишут, со-блаз это. Го-споди, что творят!..
И поглядел строго на скорняка. Скорняк бородку подергал — покаялся:
— Прости, Михайла Панкратыч, наклепал я на староверов, хотел приятней тебе по сердцу… знаю, уважаешь, — по старой вере кто… Это мне книжник подсунул, — редкость, говорит. А что сияния-святости нету — невдомек, мне, очень мне понравилось, — тебе, думаю, отнесу на Егорьев День!..
Стали мы читать под картинкой старые слова, церковною печатью; Горкин и очки надел, и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верит, бородкой трясет. И скорняк прочитал, а он опять не верит: «не может, говорит, быть такого… не разрешат законно, потому это надругательство над Святым!» — и заплевался. А я шепотком себе еще разок прочитал:
Млад Егорий во бою,
На серу сидя коню,
Колет Змия в…пию.
Понял, — нехорошо написано про Святого. Горкин стал скорняка бранить, никогда с ним такого не было.
— Это, говорит, стракулисты тебе подсунули! они над Богом смеются и бонбы кидают… Пушкина вон взорвать грозятся, сказывал Василь-Василич, смуту чтобы в народе делать! А ты — легковер… а еще книгочий!.. Он это те подсунул, на соблаз. Святого Воина Егория празднуете… — так вот тебе!
Взял да и разорвал картинку. И стало нам тут страшно. Посидели-помолчали, и будто нам что грозится, внутри так чуется. Сожгли картинку на тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. А скорняк повоздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать.
…Завелся в пещерах под Злато-Градом страшенный Змий, всех прохожих-проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов, мурины видом… дабы отдал сейчас за него. Змия, дочь-царевну, а то, пишет, всех попалю пламем-огием пронзительным, пожалю жалом язвительным. И стал Злато-Град в великом страхе вопить и молебны о заступлении петь-служить. И вот, вострубили литавры-трубы, и подъезжает к тому Злато-Граду светел вьюнош в златых доспехах, на белом коне, и серебряно копие в деснице. И возвещает светлый вьюнош царю, что грядет избавление скорби и печали, и…
И вдруг, слышим… — тонкий щемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория, — «что это?..» — спросил шепотком. Слушаем — опять воет. Горкин и говорит, тоже шепотком: «никак опять наш Бушуй?…» Послушали. Бушуй, оттуда, от конуры, от каретника. Будто уж это не первый раз: вчера, как стемнело, повизгивал, а нонче уж подвывает. Никогда не было, чтобы выл. Бывает, собаки на месяц воют, а Бушуй и на месяц не завывал. А нонче Пасха, месяца не бывает. Стал я спрашивать, почему это Бушуй воет, к чему бы это?.. — а они ни слова. Так вечер и расстроился. Хотели расходиться, а тут отец приехал, и слышим — приказывает Гришке — «дай Бушуйке воды, пить, что ль, просит?» А Гришка отвечает: «да полна шайка, это он заскучал с чегой-то».
И так это нас расстроило: и картинка эта, подсунута невесть кем, и этот щемящий вой. Скорняк простился, пошел… и говорит шепотком: «опять, никак?..» Прислушались мы: «нехорошо как воет… нехорошо».
Страшно было идти темными сенями. Горкин уж проводил меня.
Радуница
В утро Радуницы, во вторник на Фоминой, я просыпаюсь от щебета-журчанья: реполов мой поет! И во всем доме щебет, в свист, в щелканье, — канарейки, скворцы и соловьи. Сегодня «усопший праздник», — называет Горкин: сегодня поедем на могилки, скажем ласковым шепотком: «Христос Воскресе, родимые, усопшие рабы Божие! радуйтеся, все мы теперь воскреснем!» Потому и зовется — Радуница.
Какое утро!.. Окна открыты в тополь, и в нем золотисто-зелено. Тополь густой теперь, чуть пропускает солнце, на полу пятна-зайчики, а в тополе такой свет, сквозисто-зеленоватый, живой, — будто бы райский свет. Так и зовем мы с Горкиным. Мы его сами делаем: берем в горстку пучок травы — только сжимать не нужно, а чуть-чуть щелки, — и смотрим через нее на солнце: вот он и райский свет! Такого никак не сделать, а только так, да еще через тополь, утром… только весенним утром, когда еще свежие листочки. Воздух в комнате легкий, майский, чуть будто ладанцем, — это от духового тополя, — с щекотным холодочком. Я не могу улежать в постели, вскакиваю на подоконник, звоню за ветки, — так все во мне играет! За тополем, на дворе, заливаются петухи и куры, звякают у колодца ведра, тпрукают лошадей, — моют, должно быть, у колодца, — громыхает по крыше кто-то, и слышен Ондрюшкин голос, — «Подвинчивай, турманок!.. наддай!.. заматывай их, „Хохлун!“ — и голос Горкина, какой-то особенный, скрипучий, будто он тужится:
— Го-лубчики мои, ро-димыи… еще чуток, еще!.. накры-ы-ли‑и отбили „Галочку“!.. вот те Христос, отбили!..
Неужели отбили „Галочку“?!. А я и не видал… радость такую… отбили „Галочку“! Я будоражно одеваюсь, путаю сапоги, — нет, так и не поспею. Все на дворе кричат — „Галочку“ отбили!.. семерых накрыли!..» Слышу голос отца: «свалишься, старый хрыч! сейчас слезай, а то за ворот сволоку!..» И Горкин эалез на крышу! Такая у него слабость к голубям, себя не помнит. Осенью, на Покров, в последний к зиме загон, целиковская стая, — неподалеку от вас Целиков-голубятннк, булочник, — накрыла и завертела нашу, тут и попалась «Галочка», самая Горкина любимица. Ходили мы выкупать, а Целиков отперся: «вашей „Галочки“ у нас нет, можете глядеть». Укрыл красавицу, притаил. А она была первая во взгоне коноводка. Как уж она попалась?.. Горкин всю зиму горевал — «не иначе, палевый турманишка ихний голову ей вскружил. И вот, отыскалась „Галочка“, от-би-ли».
— Вот она, «Галочка»-то наша… иди, милок, скорей, поликуйся! — кричит Горкин, покачивая в горсти «Галочку».
Это — чтобы поцеловал, так духовные люди говорят. Я целую «Галочку» в головку. И Горкин тоже целует-ликует, и все, веселые, любуются на «Галочку», нахваливают пропащую душу. Отец шутит: «да та ли еще? наша словно потоньше была, складней». Нет, самая она, отметинка-белячок под крылышком, а вся — уголек живой. «Галочка» глядит на нас покойно, оранжевым кольчиком глазка. Раскормил ее Целиков, с того и потолстела.
…Лошадей вымыли, проваживают по солнышку. Кавказка все еще с пластырем под холкой, седлать нельзя. Стальную проваживают двое, она артачится, — «оглумная», говорит кузнец. Он ждет со своим припасом. Отец велит ковать помягче, на войлочке, советовал так цыган-мошенник. Вот лошадкой-то наградил, тумбы на улице боится, так и шарахнется. Кузнец говорит, — «не лошадь — лешман». Ковать он ее не любит: бояться — не боится… а глаз у ней нехорош, темный огонь в глазу. По статьям ей цены бы не было, Кавказку как хочет замотает, а вот — «темный огонь в глазу». Отец спрашивает, — и не раз спрашивал, — да что за «темный огонь»? Кузнец молчит, старается над копытом, состругивает, как с мыла, стружки. Стальная дрожит и скалится, двое распяливают ей ремнями передние ноги, третий оттягивает голову. Она ворочает кузнеца, силится вырвать ногу и ляскает зубами. Антипушка онукивает ее и воздыхает: «и лошадкам спокою не дает, всю-то ночь стойло грызет, зверь дикая… кы-ргыз», Горкин не дает мне близко подойти и в глаза не велит глядеть, она не любит. Кузнец потеет, хрипит, — «да сто-ой, лешман!..» Отец говорит — «что ж Федька-цыган не заявляется… сказать ему — сотнягу скину, пускай возьмет». Купила за триста, отдаем аа двести, а Федька не заявляется. Говорят, — «такой же „кыргыз“, одна порода — синей масти!». Отец смеется: верно, что синие. И правда, шерсть на Стальной отливает в синь. «Черти тоже, говорят, синие!» — хрипит кузнец, — «видать не видал, а сказывают бывалые». Дядя Егор кричит с галдареи, утирается полотенцем:
— Не к рукам, вот и синяя, а цены нет лошадке! возьму за сотню, объезжу, — увидишь тогда «синюю»!..
Отец молчит: неприятно ему пожалуй, что говорит дядя ва людях — «не к рукам».
— И сам объезжу! — говорит он. — Кавказка тоже дикая была, с гор.
Он отличный ездок, у англичанина Кинга учился ездить.
— Даром отдадите, Сергей-Ваныч, — и все барыш! — говорит кузнец, заклепывая гвозди: — злая в ей дрожь.
– «Кы-ргыз»! — смеется дядя Егор. — Э, знатоки еловые… о‑ве-чьей бы вам масти!..
Стальную подковали. Отец велит Гришке начистить седло и стремена, серебряные-кавказские: поскачет нынче под Воронцово снимать дачу. А сеччас — на кладбище, на Чалом, в шарабане. Гаврила повезет матушку и старших детей на Ворончике, а на Кривой поедем мы с Горкиным, не спеша. Как хорошо-то, Го-споди!.. Погода майская, все цветет, и оттого так радостно. И потому еще, что отец поедет снимать дачу, и от него пахнет флердоранжем, и щиплет ласково за щечку, и красивые у него золотые запонки на манжетах, и сам такой красивый… все говорят, красивей-ловчее всех; «огонь, прямо… на сто делов один, а поспевает».
Вчера Горкин заправил свою ковровую сумочку-саквояжик, — ездит по кладбищам, родителей поминать покойных. Дедушки, бабушки… — все у него родители. До вечера будем навещать-христосоваться: поесть захочется, — а там хорошо на травке, на привольи, и черемуха зацвела, и соловьев на Даниловской послушаем, и с покойничками душу отведем-повоздыхаем.
Сегодня все тронутся, кто куда, а больше в Даниловку, — замоскворецкая палестина наша. А нам за три заставы надо. Первое — за Рогожскую, на Ново-Благословенное, там все наши, которые по старой вере, да не совсем, а по-новоблагословенному, с прабабушки Устиньи. Она на раскола наполовину вышла, а старики были самые раскольные, стояли за старую веру крепко, даже дрались в Соборе при Царице, и она палками велела их разгонять, «за озорство такое», — в книгах написано старинных, про дедушек. Там и дедушка Иван Иваныч покоится. А потом — за Пресню, на Ваганьково, там матушкина родня, и Палагея Ивановна, которая кончину свою провидела, на масленой отошла, знала всю тайную премудрость. Уж потом только вспомнили, как с отцом такая беда случилась… — сказала она ему в Филиповкн на его слова, что думает вот «ледяной дом» делать: «да, да… горячая голова…» — и пощупала ему голову: «надо ледку, надо… остынет». А потом мы — за Серпуховку, на Даниловское: там Мартын-плотник упокояется, который Царю «аршинчик» уделал, и другие, кто когда-то у нас работал, еще при дедушке, — уважить надо. А потом и в Донской монастырь, совсем близко: там новое гнездышко завилось, братик Сережечка там, младенчик, и отец местечко себе откупил, и матушке, — чистое кладбище, солидное, у яблонного сада. Не надо бы отбиваться, Горкин говорит, — «что ж разнобой-то делать, срок-то когда придет, одни тама восстанут, другие тама поодаль… вместе-то бы складней… — да так уж пожелалось папашеньке, Сережечку-то любил, поближе приспособил — отделился». Возьмем яичек крашеных закусить, лучку зеленого, кваску там… закусим на могилках, духовно потрапезнуем с усопшими. Черемухи наломаем на Даниловском, там сила всегда черемухи. Знакомых повстречаем, все туда на свиданьице оберутся, — Анюта с Домной Панферовной всегда в Радуницу на Ваганьковском бывают. Душеспасительно побеседуем-повоздыхаем.
Шарабан заложен, слева сидит Ондрейка в казакине.
Отец, в свежем чесучовом пиджаке, в верховых сапогах, у бока сумочка на ремешке, — с ней и верхом ездит, — скок на подножку, в верховой шапочке, молодчиком, тянет ко мне два пальца, подмигивает, а я подставляю щечку. Ласково прищепляет и говорит, прищурясь: «с собой, что ль, взять?.. да некуда брать и торопиться надо… с Горкиным веселей тебе, слушайся его», В воротах навстречу ему Василь-Василич. Отец кричит:
— На кладбище, скоро ворочусь… оседлать Стальную, крепче затягивать, надувается, шельма, догляди!..
И затрепало полой чесучового пиджака за шарабаном.
Василь-Василичу охота с нами, да завтра наем рабочих, а взять — греха с ним не оберешься. Он провожает нас и говорит:
— Эх, люблю я черемуху ломать… помянул бы родителев!..
А Горкин ему, жалеючи:
— Евпраксеюшку-то забыл… Сидор-Карпыча?..
Он покоряется: помнит, как поминал в прошедшем году о. протодьякона, который до Примагентова был у нас, — насилу отмочили под колодцем. Легкий воздух так действует, и хорошие люди вспоминаются, и черемуха там томит, и соловьи поют к ночи… Я спрашиваю — «это чего такое — Евпраксеюшка-Сидор-Карпыч?». А это когда нашли Василь-Василича на Даниловском, два дни искали. Сидит — лика не узнать, под крестиком, и рыдает-рыдает-поминает, старинную песенку чуть везет:
Государь мой ба-тюшка,
Сидор Карпович…
А скажи, родименький,
Когда ты помрешь!.,
В се-реду. баушка, в се-реду…
В се-реду, Пахомовна‑а, в се-э-реду‑у…
Навзрыд рыдает — и головой в могилку, от горести. А это он будто на протодьяконовой могиле убивается: уж оченно хороший человек был протодьякон, гостеприимный очень. А могилка-то оказалась не протодьяконова, а какого-то незнакомого младенчика Евпраксеи, — «жития ей было два месяца и семь дней». А через жалостливый характер все.
Едем сначала на Ваганьково, за Пресню. Везет Антипушка на Кривой, довольный, что отпросили его с нами. На Ваганьковском помянули Палагею Ивановну, яичка покрошили, панихидку отпели, повоздыхали; Говриилу-Екатерину помянули… я‑то их не знавал, а Горкин знал, — родители это матушкины, люди самостоятельные были, ничего. А Палагея Ивановна, святой человек, премудрая была, ума палата, всякие приговорки знала, — послушать бы! Посокрушались, как мало пожила, за шестьдесят только-только переступила. Попеняли нам сторожа, чего мы яичком сорим, цельным полагается поминать родителев. А это им чтобы обобрать потом. А мы птичкам Господним покрошили, они и помянут за упокой. По всему кладбищу только и слышно, с семи концов, — то «Христос Воскресе из мертвых», то «вечная память», то «со духи праведных…» — душа возносится! А сверху грачи кричат, такой-то веселый гомон. Походили по кладбищу, знакомых навестили, много нашлось. Нашли один памятник, высокий, зеленой меди, будто большая пасха, и написано на нем, вылито, медными словами: «Девица, Певица и Музыканша», — мы даже подивились, уж так торжественно! И самую ту «Девицу» увидали, за стеклышком, на крашеном портрете; молоденькая красавица, и ангельские у ней кудри по щекам, и глаза ангельские. Антипушка пожалел-повоздыхал: молоденькая-то какая — и померла! «Ее, Михал Панкратыч, говорит, там уж, поди, в ангелы прямо приписали?» Неизвестно, какого поведения была, а так глядеться, очень подходит к ангелам, как они пишутся… и пеньем, может, заслужит чин.
И повстречали радость!
Неподалеку от той «Девицы» — Домна Панферовна, с Анютой, на могилке дочки своей сидит, и молочной яишницей поминают. Надо, говорит, обязательно молочной яишницей поминать на Радуницу, по поминовенному уставу установлено, в радостное поминовение. По ложечке помянули, уж по уставу чтобы. Спросили ее про ту ангельскую «Девицу», а она про нее все знает! «Не, не удостоится», — говорит, это уж ей известно. Антипушка стал поспрашивать, а она губы поджала только, будто обиделась. Сказала только, подумавши: «певчий с теятров застрелился от нее, а другой, суконщик-фабрикант, медный ей „мазолей“ воздвиг, — пасху эту; на Пасху она преставилась… а написал неправильно». А чего неправильно — не сказала. Пришлось нам расстаться с ними. Они на Миусовское поехали; муж покойный, пачпортнст квартальный, там упокояется, — и яишницу повезли. А мы на Ново-Благословенное потрусили, через всю Москву.
Тихое совсем кладбище, все кресты под накрышкой, «голубцами», как избушки. Люди все ходят чинно, все бородатые, в долгих кафтанах, а женщины все в шалях, в платочках черных, а девицы в беленьких платочках, как птички чистенькие. И у всех сытовая кутья, «черная», из пареной пшеницы. И многие с лестовками, а то и с курильницами-ладанницани, окуривают могилки. И все такие-то строгие по виду. А свечки не белены, а бурые, медвяные, пчела живая. Так нам понравилось, очень уж все порядливо… даже и пожалели мы, что не по старинной вере. А уж батюшки нам служили… — так-то истово-благолепно, и пели не — «смертию смерть поправ», а по-старинному, старокнижному — «смертию на смерть наступи»! А напев у них, — это вот «смертию на смерть наступи», — ну, будто хороводное-веселое, как в деревне. Говорят, — стародревнее то пение, апостольское. Апостолы так пели.
Поклонились прабабушке Устинии. Могилка у ней зеленая-травяная, мягкая, — камня она не пожелала, а Крест только. А у дедушки камень, а на камне «адамова голова» с костями, смотреть жуть. Помянули их, какие правильные были люди, повоздыхали над ними, поскучали под вербушкой, Горкин тут и схватился: вербочку-то забыли дома! А мы нарочно свяченую вербу в бутылку тогда поставили, в Вербное Воскресенье: вот на Радуницу и посадим у дедушки в головах, а Мартыну посадим на Даниловском. И верба уж белые корешки дала, и листочки уж пробивались-маслились… — и забыли! А это от расстройства, Горкин еще с Егорьева Дня расстроился: бывает так, навалится и навалится тоска. Только утром «Галочка» порадовала маленько, а после еще тоска, и на кладбище даже не хотелось ехать, — Горкин уж мне потом поведал. Немного посидели — заторопился он: на Даниловское — и домой.
Приехали на Даниловское — си-ла народу! Попросили сторожа Кривую посторожить, а то цыганы похаживают.
— Да, говорит, приглядываются цыганишки, могут на Радуницу и обрадовать за милу душу. Да на вашу-то не позарятся, пролетка разве… да и от пролетки-то вашей кака корысть? всего и звания-то — звон один.
Стало обидно Горкину за Кривую, сказал:
— Ты не гляди, что она уж в ерша пошла… побежит домой — соколу не угнаться.
— Ну, говорит, буду сокола вашего стеречь.
Дали ему пятак задатку.
Батюшку и не дозваться. Пятеро батюшек — и все в разгоне, очень народу много, череду ждать до вечера. Пропели сами «Христос Воскресе» и канон пасхальный, Горкин из поминаньица усопшие имена почитал распевно, яички покрошили… Сказали шепотком — «прощай покуда, Мартынушка, до радостного утра!..» — домой торопиться надо. А народ все простой, сидят по лужкам у кладбища, поминают, воблу об березы обивают, помягче чтобы, донышки к небу обернули, — тризну, понятно, правят. И мы подзакусили, попили кваску за тризну. Пошли к пруду, черемуху ломать. Пруд старинный, глухой-глухой, дна, говорят, не достать. Бывалые сказывали, — тут огромаднейший сом живет, как кит-рыба, в омуте увяз, когда еще тут река в старину текла, — и такой-то старый да грузный, ему и не подняться со дну, — один раз только какой-то фабричный его видал, на зорьке. Да после тризны-то всяко, говорят, увидишь. А черемуха вся обломана. Несут ее целыми кустами. Говорят — подале ступайте, там ее сила нетусветная. Стали поглуше забирать-искать, черемухи нет и нет, обломано. Горкин опять схватился:
— Ах, я, старый дурак… Гришу-то не проведали, его могилку!..
А это про мальчика Гришу он, который с мостков упал, — Горкин все каялся, будто это через него упал, — к высоте его приучал, — и на него питимью наложил суд, а самого оправил, — рассказывал он мне, когда к Троице мы ходили. Ну, купили на пятак черемухи у старого старика, а уж к вечеру дело, домой пора. Порадовались черемухе, все в нее головами нюхали, самая-то весна. Антипушка и припомнил, — ломал, бывало, черемуху, молодым. И песенку припомнил.
— Певали у вас так? — Горкина спрашивает. — «И я черемуху ломала, духовитую вязала…» как-то это… забыл. Да‑а… «Головушку разломило… всюю тело растомило… всю-то ночку не спала, все-то милова ждала…» А дальше вот и забыл, не упомню.
А Горкин отплевывается, — «нашел время, дурак старый…» — заторопил нас: скорей-скорей, припоздали! А Гришу-то?.. — Ну, Гриша нас простит, скорей-скорей… — Всполошился, руки даже дрожат. Стали спрашивать, а как же в трактир чайку попить завернуть хотели, у Серпуховской заставы?..
— Ну, завернем, на полчасика, — говорит; чайку-то любил попить, да и с копченой селедки смерть пить хочется. — Все было ничего, легко… а как у бабушки Устиньи сидели на могилке, что-то меня, словно, толконуло… томление во мне стало, мочи нет.
А трактирщик знакомый у заставы, гостеприимный, ботвиньицей стал угощать с судачком сушеным, и по рюмочке они выпили. Только половой принес чайники, а тут кирпичники входят, кирпич везут из-под Воробьевки. Начали разговор, народ что-то залюбопытствовал. Подходит к нам хозяин и говорит, опасливо так; «человека лошадь убила, на их глазах по соше волочила, замертво повезли, перехватили лошадь кирпичники, верхом ехал, чисто одет… всю голову о сошу разбило, нога в стремю запуталась…»
Как он сказал, так мы и обомлели. Стали кирпичников спрашивать, какой человек, в какой одежде… Говорят, в белом спиджаке, и сумочка при нем, самостоятельный, видать… такой из себя кра-си-вый… и золотые часы на нем, целехоньки! А тут еще подошли двое киртичников, толковей рассказали:
— Нам хорошо известен тот человек, подрядчик с Калужской улицы, хороший человек, уважительный… — нашу фамилию и назвали! — Уложили его на кирпичи, рогожку подкинули и травки под голова, мягко… домой еле жива повезли. И не стонул даже, залился кровью, места живого не осталось. И спиджак прямо весь черный стал, с крови… не дай Бог!..
Бросили мы чай, погнали. Горкин молитву творит, а я ничего не понимаю, будто это неправда… а так, нарочно. Только-только веселый был, за щечку меня держал… — неправда, не было ничего! И кирпичники… — все неправда, так. Если бы правда, я плакал бы, а я не плачу, и Горкин не плачет, и Антипушка не плачет, а только настегивает Кривую. Вдруг Горкин и говорит:
— Вот Бушуй-то как чуял-выл… и во мне тревога все, на кладбище будто что в душу толконуло…
И заплакал, тоненьким голоском… — Голову в руки спрятал и затресся. И я стал плакать. Антипушка крикнул — «народу что в воротах толпится!..». Уж мы подъехали. Говорят — «хозяина привезли, лошадь разбила… а еще жив был, водицы просил, как сымали его с кирпича». И наш гробовщик Базыкин, молодой, доглядывает, тут же; Горкин на него замахал: «креста на тебе нету!.. человек живой, а ты!..» Он за народ и схоронился, совестно ему стало. Говорят, — доктора привезли уж, и доктор Клин, Крап Ерастыч, сказал: «голова цела, кости целы, — выправится!»
Потшли мы с Горкиным в дом, на цыпочках, а там Василь-Василич, в передней на табуретке сидит, лица нет. И в уголку на полу — тряпка словно ржавые такие пятна… Горкин папашенькин пиджачок признал, которые чесучовый был. А Василь-Василич замахал на нас, и шепотком, так страшно:
— Не велено тревожить, ни Бо-же мой!.. Ледом голову обложи, бредит!..
Велел в мастерскую идти, все там прижухнулись, мамашенька только с доктором.
Вышли мы в верхние сени, Горкин и закричал в окошко, не своим голосом:
— У‑у, злая сила!.. — и кулаком погрозил.
А это он на Стальную. И я вижу: привязана Стальная у сарая, скучная, повислая, висят стремена, седло набок. И вспомнилось мне страшное слово кузнеца: «темный огонь в глазу».
Приблизительное время чтения: 6 мин.
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же… Не поймешь чего – подскажет сердце. <…>
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. <…>
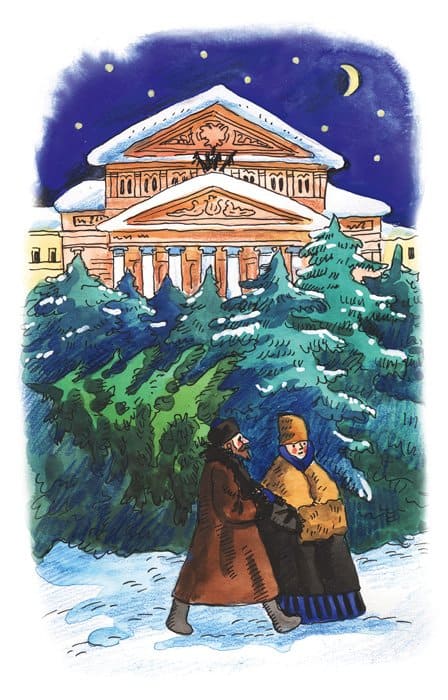
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, – чаща. На Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. <…> Морозная Россия, а… тепло!..
В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на сено.
Почему?.. А будто – дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. <…> В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо, серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.
На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком – знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка… осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.
Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь туда. Вот, прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..»
Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься… Видишь – кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот, подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь – впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.

Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру – «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И – на душе тепло, от счастья.
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! <…>
И в доме – Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, – другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, – звездочки, в лесу как будто… А завтра!..
А вот и – завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором – в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. <…>

Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит “славить”. <…> Он взмахивает черным пальцем и начинают хором:
Рождество Твое. Христе Бо-же наш…
<…>
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит – и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье… – должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними – звезды. Светит большая звезда над Барминихивым садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) – русский писатель, автор произведений «Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша», «Богомолье», «Лето Господне» и многих других. Он был родом из купеческой семьи, вырос в старом районе Москвы – Замоскворечье. Среда, которая окружала его, – ремесленники и купцы, со своими традициями, привычками и со своей особой религиозностью.
Вряд ли Шмелев, будучи маленьким мальчиком, представлял себе, какую роль сыграют воспоминания об этих счастливых годах и в его собственной жизни, и в жизни его страны.
В 1920-е годы Шмелев, как и многие русские писатели, оказался в эмиграции, в Париже, и жил очень бедно. До конца дней он не мог смириться со смертью сына, которого расстреляли большевики. Переживанием этой потери пронизано его произведение «Солнце мертвых», которое принесло писателю европейскую славу.
Совсем другое настроение – в удивительном романе «Лето Господне». Это яркие, живые, почти физически ощутимые воспоминания о детстве, о быте Замоскворечья, о традициях той России, которой уже нет, но которую Шмелев так любил.
Предлагаем вам познакомиться с отрывком из романа «Лето Господне», где Шмелев пишет о Рождестве Христовом.
Рисунки Екатерины Гавриловой

Рождество уже засветилось, как под Введенье запели за всенощной «Христос рождается, славите: Христос с небес, срящите…» — так сердце и заиграло, будто в нем свет зажегся. Горкин меня загодя укреплял, а то не терпелось мне, скорей бы Рождество приходило, все говорил вразумительно: «нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет». Говорил, бывало:
— Ты вон, летось, морожена покупал… и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большою радостью, еще пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приуготовляемся, издаля приглядываемся, — вот оно, Рождество-то, уж светится. И радости больше оттого.
И это сущая правда. Стали на крылосе петь, сразу и зажглось паникадило, — уж светится будто Рождество. Иду ото всенощной, снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поет, весело так похрустывает — «Христос с небес, срящите…» — такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и промерзшие заборы, и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, — веселый, морозный хруст. Только бы Николина Дня дождаться, а там и рукой подать: скатишься, как под горку, на Рождество.
«Вот и пришли Варвары», — Горкин так говорит, — Василь-Василичу нашему на муку. В деревне у него на Николу престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжки. Отец посмеивается: «теперь уж варвариться придется!». С неделю похороводится: три дни подряд празднует трояк-праздник: Варвару, Савву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василь-Василич бережется, да морозы под руку толкают. Поговорка известная: Варвара-Савва мостит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдет, так и пропадет с неделю. Зато уж на Рождество — «как стеклышко», чист душой: горячее дело, публику с гор катать. Разве вот только «на стенке» отличится, — на третий день Рождества, такой порядок, от старины; бромлейцы, заводские с чугунного завода Бромлея, с Серединки, неподалеку от нас, на той же Калужской улице, «стенкой» пойдут на наших, в кулачный бой, и большое побоище бывает; сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто дозволяет, и будошники не разгоняют: с морозу людям погреться тоже надо. А у Василь-Василича кровь такая, горячая: смотрит-смотрит — и ввяжется. Ну, с купцами потом и празднует победу-одоление.
Как увидишь, — на Конную площадь обозы потянулись, — скоро и Рождество.
Всякую живность везут, со всей России: свиней, поросят, гусей… — на весь мясоед, мороженных, пылкого мороза. Пойдем с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе, все запасаются помногу, — дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики, с Житной, сами впрягаются в сани — народ потешить для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а две-три тушки свиных необходимо, да черных поросят, с кашей жарить, десятка три, да белых, на заливное молошничков, два десятка, чтобы до заговин хватило, да индеек-гусей-кур-уток, да потрохов, да еще солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей-тетерок, да… — трое саней брать надо.
И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь положить, хоть рябчиков.
В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зеленым бархатом, с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Ленька Егоров, мастер змеи запускать и голубей гонять. Приходит, и давай хаять саночки: девчонкам только на них кататься, разве санки бывают с бахромой! Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь.
Велел мне сесть на саночки , повез по саду, в сугробе увязил и вывалил.
— Вот дак са-ночки твои!.. — говорит, — и плюнул на мои саночки.
Сердце у меня и заскучало. И стал нахваливать свои, лубяные: на них и в далекую дорогу можно, и сенца можно постелить, и товар возить: вот на Конную-то за поросятами ехать! Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие, у щепника нашего на рынке выставлены такие же у лавки. Посадил меня и по саду лихо прокатил.
— Вот это дак са-аночки! — говорит. Отошел к воротам, и кричит: — Хочешь, так уж и быть, променяю приятельски, только ты мне в придачу чего-нибудь… хоть три копейки, а я тебе гайку подарю, змеи чикать.
Я обрадовался, дал ему саночки и три копейки, а он мне гайку — змеи чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил:
— Откуда у те такие лутошные?
Как узнал все дело, так и ахнул:
— Ах, ты, самоуправник! Да тебя, простота, он, лукавый, вокруг пальца обернул, папашенька-то чего скажет!.. да евошним-то три гривенника — красная цена, куклу возить девчонкам, а ты дурачок… идем со мной.
Пошли мы с ним к Леньке на двор, а он уж с горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. А отец его, печник знакомый, и говорит:
— А ваш-то чего смотрел… так дураков и учат.
Горкин сказал ему чего-то от Писания, он и проникся, Леньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину:
— А за поросятами на Конную, как же я?..
— Поставим, говорит, корзиночку, и повезешь.
Близится Рождество: матушка велит принести из амбара «паука». Это высокий такой шест, и круглая на нем щетка, будто шапка: обметать паутину из углов. Два раза в году «паука» приносят: на Рождество и на Пасху. Смотрю на «паука» и думаю: «бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество». И все радуются.
И двери наши, — моют их теперь к Празднику, — и медные их ручки, чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества: в Сочельник развяжут их, они и засияют, радостные, для Праздника. По всему дому идет суетливая уборка.
Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетеной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг, плюхается с размаху на диван, будто приехал в гости, кричит мне важно — «подать мне чаю-шоколаду!» — и строит рожи, гостя так представляет важного. Горкин — и тот на него смеется, на что уж строгий.
«Белят» ризы на образах: чистят до блеска щеточкой с мелком и водкой и ставят «праздничные», рождественские, лампадки, белые и голубые, в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звезды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, — и это напоминает чистый, морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками. Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, — запахом Праздника. В гостиной стелят «рождественский» ковер, — пышные голубые розы на белом поле, — морозное будто, снежное. А на Пасху — пунсовые розы полагаются, на алом.
На Конной, — ей и конца не видно, — где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом, стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, — завалено народом, черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый, в оранжевом вонючем полушубке, взял его Горкин на подмогу.
Куда тут с санками, самих бы не задавили только, — чистое светопреставление. Антон несет меня на руках, как на «постном рынке». Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с Антипушкой, для провизии, — целый рынок закупим нынче.
Мороз взялся такой, — только поплясывай. И все довольны, веселые, для Рождества стараются, поглатывают-жгутся горячий сбитень. Только и слышишь — перекликаются:
— Много ль поросят-то закупаешь?
— Много — не много, а штук пяток надо бы, для Праздника.
Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мерзлых поросят: живые камушки.
— Звонкие-молошные!.. не поросятки — а-нделы!..
Горкин пеняет тамбовскому, — «рыжая борода»: не годится так, ангелы — святое слово. Мужик смеется:
— Я и тебя, милый, а-нделом назову… у меня ласковей слова нет. Не черным словом я, — а-ндельским!..
— Дворянские самые индюшки!.. княжьего роду, пензицкого заводу!..
Горкин говорит, — давно торгу такого не видал, боле тыщи подвод нагнали, — слыхано ли когда! «черняк» — восемь копеек фунт?! «беляк» — одиннадцать! дешевле пареной репы. А потому: хлеба уродилось после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин: сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в Наливках, в енотовой огромной шубе, слон-слоном, за спиной мешок, полон: немало ему надо, семья великая.
— Третий мешок набил, — басит с морозу дьякон, — гуська одного с дюжинку, а поросяткам и счет забыл. Семейка-то у меня…
А Горкин на ухо мне:
— Это он так, для хорошего разговору… он для души старается, в богадельню жертвует. Вот и папашенька, записочку сам дал, велит на четвертной накупить, по бедным семьям. И втайне чтобы, мне только препоручает, а я те в поучение… выростешь — и попомнишь. Только никому не сказывай.
Встречаем и Домну Панферовну, замотана шалями, гора горой, обмерзла. С мешком тоже, да и салазки еще волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела, уточек она любит, пожирней. Смотрим — и барин Энтальцев тут, совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует.
Говорит важно так, — «рябчиков покупаю, «можжевельнич-ков», тонкий вкус! Там, на углу, пятиалтынный пара!». Мы не верим: у него и гривенничка наищешься. Подходим к рябчикам: полон-то воз, вороха пестрого перья.
Оказывается, «можжевельнички» — четвертак пара.
— Терся тут, у моего воза, какой-то хлюст, нос насандален… — говорит рябчичник, — давал пятиалтынный за парочку, глаза мне отвел… а люди видали — стащил будто пары две под свою пальтишку… разве тут доглядишь!..
Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый, барин прогорелый. Ради такого Праздника и не обижаются на жуликов: «что волку в зубы — Егорий дал!». Только один скандал всего и видали, как поймал мужик паренька с гусем, выхватил у него гуся, да в нос ему мерзлым горлом гусиным: «разговейся, разговейся!..» Потыкал-потыкал — да и плюнул, связываться не время. А свинорубы и внимание не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мерзлые куски, с фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой Конной тянутся, как поленницы, как груды бревен-обрубков: мороженая свинина сложена рядами, запорошило снежком розовые разводы срезов: окорока уже пущены в засол, до Пасхи.
Кричат: «тройку пропущай, задавим!». Народ смеется: пакетчики это с Житной, везут на себе сани, полным-полны, а на груде мороженого мяса сидит-покачивается веселый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, к груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на веревках, несут подвязанных на спине гроздьями, — одна гроздь напереду, другая сзади, — растаскивают великий торг. И даже бутошник наш поросенка тащит и пару кур, и знакомый пожарный с Якиманской части, и звонарь от Казанской тащит, и фонарщик гусят несет, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то, все. Душа — душой, а и мамона требует своего, для Праздника.
В Сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок, «рождественских», в голубой каемке. На окне стоят зеленые четверти «очищенной», — подносить народу, как поздравлять с Праздником придут. В зале — парадный стол, еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от нее, не дотронуться, тоже стол, карточный-раскрытый, — закусочный: завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внесли: она мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всенощной ее впустят.
Отец в кабинете: принесли выручку из бань, с ледяных катков и портомоен. Я слышу знакомое почокивание медяков и тонкий позвонец серебреца: это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завертывает в бумажки; потом раскладывает на записочки — каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в ней вписаны разные бедняки и кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василь-Василича, велит заложить беговые санки и развезти по углам-подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество.
У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет Крест. Скоро пойдем ко
всенощной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу, — что-то побаливает
она у него, с мороза, что ли. Спрашивает меня:
— В Писании писано: «и явилась в небе многая сонма Ангелов…», кому явилась?
Я знаю, про что он говорит: это пастухам ангелы явились и воспели — «Слава в вышних Богу…».
— А почему пастухам явились? Вот и не знаешь. В училищу будешь поступать, в имназюю… папашенька говорил намедни… у Храма Христа Спасителя та училища, имназюя, красный дом большенный, чугунные ворота.
Там те батюшка и вопросит, а ты и не знаешь. А он стро-гой, отец благочинный нашего сорока, протоерей Копьев, от Спаса в Наливках… он те и погонит-скажет — «ступай, доучивайся!» — скажет. А потому, мол, скажи… Про это мне вразумление от отца духовного было, он все мне растолковал, о. Валентин, в Успенском соборе, в Кремле, у-че-ный!.. проповеди как говорит!.. Запомни его — о. Валентин, Анфитияров. Сказал: в стихе поется церковном: «истиннаго возвещают Па-стыря!..» Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то?.. — «Аз есьм Пастырь Добрый…». Вот пастухам первым потому и было возвещено. А потом уж и волхвам-мудрецам было возвещено: знайте, мол! А без Него и мудрости не будет. Вот ты и помни.
Идем ко всенощной.
Горкин раньше еще ушел, у свещного ящика много дела. Отец ведет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Саня Юрцов, заика который у Сергия-Троицы послушником: отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча, для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слыхал, как Ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. А они поют ласково так и радостно. Отец говорит:
— Ах, вы, Божьи люди!..
Клавнюша сказал — «все Божий» — и за руку нас остановил:
— Вы прислушайте, прислушайте… как все играет!.. и на земле, и на небеси!..
А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие звезды, — и гу-ул… все будто небо звенит-гудит, — колокола поют. До того радостно поют, будто вся тварь играет: и дым над нами, со всех домов, и звезды в дыму, играют, сияние от них веселое. И говорит еще:
— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несет с земли… играет ка-ким столбом!..
И Саня-заика стал за ним говорить:
— И-и-и… грает… не-бо и зе-зе-земля играет…
И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтобы взяли:
— Дадите там, кому хотите. Ах, вы, Божьи дети… молитвенники вы за нас, грешных… простосерды вы. А у нас радость, к Празднику: доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, Ломшачка, к смерти приговорил, неделю ему только оставлял жить… дескать, от сердца помрет… уж и дышать переставал Ломшачок! а вот, выправился, выписали его намедни из больницы. Покажет себя сейчас, как «с нами Бог» грянет!..
Так мы возрадовались! А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел.
В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:
— А Ломшачок-то наш, гляди-ты… вон он, горло-то потирает, на крылосе… это, значит, готовится, сейчас «С нами Бог» вовсю запустит.
Вся церковь воссияла, — все паникадилы загорелись. Смотрю: разинул Ломшаков рот, назад головой подался… — все так и замерли, ждут. И так ах-нуло — «С нами Бог»… — как громом, так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылке. Горкин и молится, и мне шепчет:
— Воскрес из мертвых наш Ломшачок… — «…разумейте, языцы: и покоряйтеся… яко с нами Бог!..».
И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от радости. Такого пения, говорили, еще и не слыхали: будто все Херувимы-Серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума…» — такое во мне радостное стало… и я будто увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и волхвов — и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал:
— А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света-разума, а тьма языческая!..
И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал… — его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, — «припадочный он», — говорили-жалели все.
Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у басейны, и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, — «Рождественская» называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы, и будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет.
Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, в фонаре, от пожара, не дай-то Бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю:
— Знаешь, Антипушка, нонче вся тварь играет, Христос родился.
А он говорит — «а как же, знаю… вот и лампадочку затеплил…». И правда: не спят лошадки, копытцами перебирают.
— Они еще лучше нашего чуют, — говорит Антипушка, — как заслышали благовест, ко всенощной… ухи навострили, все слушали.
Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая, из пшенички, угостил нас — святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые, все звезды сосчитали, и как Ангелы пели пастырям, а Звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь.
Горкин и говорит, — будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней:
— Ах, вы, ласковые… Божьи люди!..
А Клавнюша опять сказал, как у басейны:
— Все Божии.

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней – селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество – свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, – мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, – разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы – к Рождеству. Обоз? Ну, будто, поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, – «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь… Знаешь – рябчик? Пестренький такой, рябой… – ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется – дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас – обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу, – и домой, чугунной. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, – там лошадями торговали, – стон стоит. А площадь эта… – как бы тебе сказать?.. – да попросторней будет, чем… знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся – в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи – как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да… с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает… – розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, – наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой – поросячий ряд, на версту. А там – гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, – без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, – большие сани, – везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины… Богато жили.

В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на сено.
Почему?.. А будто – дар Христу. Ну.., будто, Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо, серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… – гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое,
Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.
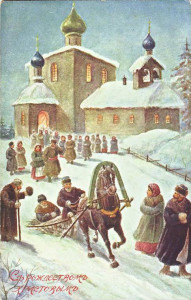
Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти – придешь туда. Вот, прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..»
Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься… Видишь – кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот, подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь – впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру – «Бушуйка!». Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И – на душе тепло, от счастья.
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет – «выкормочек мой… растешь»…
Печатается в сокращении
Завтра — Преображение, а после завтра меня повезут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную Историю» Афинского. «Завтра» — это только так говорят, — а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса-Преображения. Все у нас говорят, что главное — Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного…» Я ему расскажу: и он похвалит:
— Хорошо умеешь, — а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, — не бось, они тебя возьмут в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас Яблошный Спас… про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а ты… Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.
— Да нету же ничего… — говорю я, совсем расстроенный, — написано только, что святят яблоки!
— И кропят. А почему кропят? А‑а! Они тебя вспросют, — ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается… уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, — яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной — для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.
Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него в душе — доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, — не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, — поспела, закраснелись. Будем ее трясти — для завтра. Горкин утром еще сказал:
— После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.
Такая радость. Отец — староста у Казанской, уже распорядился:
— Вот что, Горкин… Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим, «бели», что ли… да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.
— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?
— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный.
— Орбузы у него… рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукову посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.
После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин. Приказчик Василь-Василич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет — прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет — золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони — глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.
— Погоди, стой… — говорит он, прикидывая глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней… ну, маненько подшибем — ничего, лучше сочком пойдет… а силой не берись!
Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов, и пронзительно едкий — от крапивы, мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, — от яблок. Ползают все, даже грузный Василь-Василич, у которого лопнула на спине жилетка, и видно розовую рубаху лодочкой; даже и толстый Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа… гру-шовка!..
Зажмуришься и вдыхаешь, — такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-крепость — со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках…
И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший… с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад… — до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, — все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой… и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшеюся в камень, с прильнувшими цепко голябями, со струйками золотого овсеца… и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки…
— Да пускай, Панкратыч!.. — оттирает плечом Василь-Василич, засучив рукава рубахи, — ей-Богу, на стройку надоть!..
— Да постой, голова елова… — не пускает Горкин, — по-бьешь, дуролом, яблочки…
Встряхивает и Василь-Василич: словно налетает буря, шумит со свистом, — и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «эт-та вот тряхану-ул, Василь-Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь-Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.
— Эх, бывало, у нас трясли… зальешься! — вздыхает Василь-Василич, застегивая на ходу жилетку, — да иду, черрт вас..!
— Черкается еще, елова голова… на таком деле… — строго говорит Горкин. — Эн еще где хоронится!.. — оглядывает он макушку. — Да не стрясешь… воробьям на розговины пойдет, последышек.
Мы сидим в замятой траве; пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапиве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.
— Осенние-то песни!.. — говорит Горкин грустно. — Про-щай, лето. Подошли Спасы — готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете… Надо бы обязательно на Покров домой съездить… да чего там, нет никого.
Сколько уж говорил — и никогда не съездит: привык к месту.
— В Павлове у нас яблока… пятак мера! — говорит Трифоныч. — А яблоко-то какое — па-влов-ское!
Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:
Крива-крива ручка,
Кто даст — тот князь.
Кто не даст — тот собачий глаз.
Собачий глаз! Собачий глаз!
Горкин отмахивается, лягается:
— Ма-хонькие, что ли… Приходи завтра к Казанской — дам и пару.
Запрягают в полок Кривую. Ее держат из уважения, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой — Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским Рынком, Григория Неокессарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет: белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья, за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, — «от парева», — позевывая, говорит Горкин. — Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно.
— Староста Лощенов с Шаболовки, мясник. Жадный, три меры всего. А мы с тобой закупим боле десяти, на всю пятерку.
Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и Болото, по низинке, — великая площадь торга, каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снетками, судаками, яблоками… Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки. Куда ни гляди — рогожа да солома.
— Бо-льшой нонче привоз, урожай на яблоки, — говорит Горкин, — поест яблочков Москва наша.
Мы проезжаем по лабазам, в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина.
— Горкину-Панкратычу! — дергает картузом Крапивкин, с седой бородой, широкий. — А я‑то думал — пропал наш козел, а он вон он, седа бородка!
Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо: только пили, — хоть мы и не пили. Крапивкин не уступает: «палка на палку — плохо, а чай на чай — Якиманская, качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого, в соломке глядятся яблочки. — «С яблочными духами чаек пьем!» — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу, на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы — привезли ящики с машины. Наконец подымаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта: вот белый налив, — «если глядеть на солнышко, как фонарик!» — вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка.
— Наблюдных-то?.. — показистей тебе надо… — задумывается Крапивкин. — Хозяину потрафить надо?.. Боровок крепонек еще, поповна некрасовита…
— Да ты мне, Ондрей Максимыч, — ласково говорит Горкин, — покрасовитей каких, парадных. Павловку, что ли… или эту, вот как ее?
— Этой нету, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесть! Эй, открой, с Курска которые, за дорогу утомились, очень хороши будут…
— А вот, поманежней будто, — нашаривает в соломе Горкин, — опорт никак?..
— Выше сорт, чем опорт, называется — кампорт!
— Ссыпай меру. Архирейское, прямо… как раз на окропление.
— Глазок-то у тебя!.. В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-те-ятрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?
— Как не слыхать… золотое слово!
Горкин набирает для народа бели и россыпи, мер восемь. Берет и притчу титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, «каких нет нигде». А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы — пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные китайские щечки и хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их сочный треск, и чувствую, как кислит во рту. Оставляем Кривую у лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.
— Павловка, а? мелковата только?..
— Сама она, купец. Крупней не бывает нашей. Три гривенника пол меры.
— Ну что ты мне, слова голова, болясы точишь!.. Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге — гривенник такие.
— С нашей-то Волги версты долги! Я сам из-под Кинешмы.
И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру.
Пора домой, скоро ко всенощной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Иван-Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки.
Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо: такое оно спокойное, так бы и улетел в него.
Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам — передаются — к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным — свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело — будто гости, и церковь — совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть — Преображение.
Приходит Горкин и говорит: «пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок — «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, — совсем не церковь. Священники и дьякон в необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», — так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград, — зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, — необыкновенную, веселую молитву, — и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки… Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон нарочно, будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их — живей проходи, не засть! Они клянчат: «дай яблочка-то еще, Горкин… Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом — и морщится:
— С кваском… — говорит он, морщась и скосив глаз, трясется его бородка. — А приятно, ко времю-то, кропленое…
Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную Историю».
— А ты не бось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросют про Спас, или там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай… в училищу и впустят. Вот погляди вот!..
Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, — и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг, начинает во мне покалывать — от непонятной ли радости, или от яблоков, без счета съеденных в этот день, — начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, — что в училище меня впустят, непременно впустят!
Глава «Рождество»
Книга «Праздники». Роман «Лето Господне» Иван Шмелёв
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Наталье Николаевне
и Ивану Александровичу
Ильиным
посвящаю.
Автор
Праздники
Великий Пост
Чистый Понедельник
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш плотник — «филенщик» Горкин, сказал вчера, что Масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап… кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.
— Косого ко мне позвать! — слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, — редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощеный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках — «всех прощаю!». Почему же кричит отец?
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… — так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надомной колышет.
— Вставай, милок, не нежься… — ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. — Где она у тебя тут, масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел Пост — отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут — «душе моя, душе моя» — заслушаешься.
Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный — тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, — чистый сегодня понедельник! — только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так «по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие — угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь Пост будет с ними пить чай — «за сахар».
— А почему папаша сердитый… на Василь-Василича так?
— А, грехи… — со вздохом говорит Горкин. — Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, Пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли… по закону-то! Читай — «Господи-Владыко живота моего». Вот и будет весело.
И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е… Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той жизни, которая будет… где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.
— Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и Пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни… по-мни!.. — поокивает он так славно.
В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни.. по-мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина — «Красавица на пиру» — закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «греховная и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится — такой шик! Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то — «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься — и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, — великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, — такая прелесть. Я хватаю щепотками, — как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь Пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар — лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все — другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, — весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:
— Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же… как же Он допустил?..
Чувствуется мне в этом великая тайна — Бог.
В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит, «сгоряча», — и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют — злого духа? Должно быть, он и сейчас еще «подшофе».
— Пьяная морда! — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со звоном груды денег. — И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями, прости, Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял… на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез… в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..
— Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с… в баню ходил-парился… чистый понедельник-с… все в бане, с пяти часов, как полагается… — докладывает, нагибаясь, Василь-Василич и все отталкивает кого-то сзади. — Посчитайте… все сполна-с… хозяйское добро у меня… в огне не тонет, в воде не горит-с… чисто-начисто…
— Чуть не изувечили публику! Пьяные, с гор катали? От квартального с Пресни записка мне… Чем это пахнет? Докладывай, как было.
— За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда… ошибся… ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились, — катай! маслену скатываем! Ну скатили дилижан, кричат — жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал… ну, выпивши маленько…
— А ты трезвый?
— Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был… А меня в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники… с блинами на горы приезжали, и с кульками… Очень я им пондравился…
— Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври…
— Забрали меня силом на дилижан, погнал нас Антошка… А они меня поперек держут, распорядиться не дозволяют. Лети-им с гор… не дай Бог… вижу, пропадать нам… Кричу — Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать пятками, резать… да с ручки сорвался, под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место… с кулак нажгло-с… А там, дураки, без моего глазу… другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка Глухой повел… ну, тоже маленько для проводов Масленой не вовсе тверезый… В нас и ударило, восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а народ только пораскидало… А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас всех побило… лежали мы на льду, на самом на ходу… Ну, писарь квартальный стал пужать, протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу… и ему солянки велел подать… и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по закону, под Великий Пост, чтобы было тихо и благородно… все веселения, чтобы для тишины.
— Антошка с Глухим как, лежат?
— Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от… сотрясения-с! А я все уладил, поехал домой, да… голову мне поранило о дилижан, память пропала… один мешочек мелочи и забыл-с… да свой ведь извозчик-то, сорок лет ваше семейство знает!
— Ступай… — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил… Говей тут с вами!.. Постой… Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять… двадцать возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника. Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.
Василь-Василич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать: «ну, ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!
Я долго стою и не решаюсь — войти? Скриплю дверью. Отец, в сером халате, скучный, — я вижу его нахмуренные брови, — считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и — звонко — серебро.
— Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах, мошенники… Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!
Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.
В мастерской лежат на стружках, у самой печки, Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты, — «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь Пост, от Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно. Горкин читает-плачет:
–..и еси… свя-тии… ангелы с Ним.
Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов… — и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стряпухе:
— Ох, кваску бы… огурчика бы…
А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:
— «Идите от Меня… в огонь вечный… уготованный диаволу и аггелам его!..»
А часики, в тишине, — чи-чи-чи…
Я тихо сижу и слушаю.
После унылого обеда, в общем молчании, отец все еще расстроен, — я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь-Василич тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает… А то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает — ни слова.
— А за что изругали! — уныло говорит он мне, смотря на крыши. — Расчет, говорят, бери… за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки… с мальчишек… Другие дома нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот… расчет! Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит…
У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! и в такой-то день! Велено всех прощать, и вчера всех простили и Василь-Василича.
— Василь-Василич! — слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро идет к сараю, где мы беседуем. — Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..
— Какие есть — все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону, и строго, Василь-Василич. — Мне ваши деньги… у меня еще крест на шее!
— А ты не серчай, чучело… Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.
— А так, что вчера ломились на горы, Масленая… и задорные, не желают ждать… швыряли деньгами в кассыю, а билета не хотят… не воры мы, говорят! Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные… ну, пятерку пропили, может… только и всего. А я… я вашего добра… Вот у меня, вот вашего всего!.. — уже кричит Василь-Василич и враз вывертывает карманы куртки.
Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь-Василич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь-Василичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василь-Василич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь-Василич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо:
— Нечего проклажаться! Эй, робята… забирай лопаты, снег убирать… лед подвалят — некуда складывать!
Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим, потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь-Василич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.
— Постишься, Вася? — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка покажи себя, лопаточкой-то… блинки-то повытрясем.
Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится рыканье, пахнет острою редькой и капустой. Начинают печально благовестить — помни… по-мни… — к ефимонам.
— Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, — говорит мне Горкин.
Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:
— Василь-Василич… зайди-ка на минутку, братец.
Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, — дрожит у него голос:
— Так и поступай, с папашеньки пример бери… не обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо… пещи. Василь-Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже четвертной, ни за что… десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и обходись с людьми. Наши робята хо-рошие, они це-нют…
Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний, ветерок… — я и теперь его слышу в сердце.
Ефимоны
Я еду к ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, и он все позванивает ими: должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает, от грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой — старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник, а из плотников много самых больших святых: и Сергий Преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело.
— Горкин, — спрашиваю его, — а почему стояния?
— Стоять надо, — говорит он, поокивая мягко, как и все владимирцы. — Потому, как на Страшном Суду стоишь. И бойся! Потому — их-фимоны.
Их-фимоны… А у нас называют — ефимоны, а Марьюшка-кухарка говорит даже «филимоны», совсем смешно, будто выходит филин и лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю у Горкина, а почему же филимоны, Марьюшка говорит?
— Один грех с тобой. Ну, какие тебе филимоны… Их-фимоны! Господне слово от древних век. Стояние — покаяние со слезьми. Ско-рбе-ние… Стой и шопчи: Боже, очисти мя, грешного! Господь тебя и очистит. И в землю кланяйся. Потому, их-фимоны!..
Таинственные слова, священные. Что-то в них… Бог будто? Нравится мне и «яко кадило пред Тобою», и «непщевати вины о гресех», — это я выучил в молитвах. И еще — «жертва вечерняя», будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще — радостные слова: «чаю воскресения мертвых»! Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю, и с булочками, как нам. Вот глупый! И еще нравится новое слово «целому-дрие», — будто звон слышится? Другие это слова, не наши: Божьи это слова.
Их-фимоны, стояние… как будто та жизнь подходит, небесная, где уже не мы, а души. Там — прабабушка Устинья, которая сорок лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожаным ремешком по священной книге. Там и удивительные Мартын-плотник, и маляр Прокофий, которого хоронили на Крещенье в такой мороз, что он не оттает до самого Страшного Суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил, и кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода, — много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час! Потому и стояние, и ефимоны.
И кругом уже все — такое. Серое небо, скучное. Оно стало как будто ниже, и все притихло: и дома стали ниже и притихли, и люди загрустили, идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мякнет, стал как толченые орехи, халва-халвой, — совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешный. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит. Грехи душат? Вон, на березе за забором, так изгибает шею, будто гусак клюется.
— Горкин, а вороны приставятся на Страшном Суде?
Он говорит — это неизвестно. А как же на картинке, где Страшный Суд?.. Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты-рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов, со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками.
— Пожалуй, что и вся тварь воскреснет… — задумчиво говорит Горкин. — А за что же судить! Она-тварь неразумная, с нее взятки гладки. А ты не думай про глупости, не такое время, не помышляй.
Не такое время, я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг — воздушные разноцветные шары! У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить.
— Хозяин выгнал за безобразие! — говорит Горкину половой. — Дни строгие, а он с Масленой все прощается, шарашник. Гости обижаются, все черным словом…
— За шары подавай!.. — кричит парень ужасными словами.
— Извощики спичкой ему прожгли. Не ходи без времени, у нас строго.
Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня.
— Сажай его «под шары», Бочкин! Будут ему шары… — кричат половые вслед.
— Пойдем уж… грехи с этим народом! — вздыхает Горкин, таща меня. — А хорошо, стро-го стало… блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем ндравится порядок. И машину на перву неделю запирает, и лампадки везде горят, афонское масло жгет, от Пантелемона. Так блюде-от!..
И мне нравится, что блюдет.
Мясные на площади закрыты. И Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная Горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба снетка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная, с воткнутою лопаточкой, коробочки с копчушкой. Но никто ничего не покупает, до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком; в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают-бултыхают жестянки-маслососы, — пошла работа! Стелется вязкий дух, — теплым печеным хлебом. Хочется теплой корочки, но грех и думать.
— Постой-ка, — приостанавливается Горкин на площади, — никак уж Базыкин гроб Жирнову-покойнику сготовил, народ-то смотрит? Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас вздымать будут. Обязательно ему…
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее: всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах, — неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет.
В накопившейся с крыши луже стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными, похоронными конями. Это не просто лошади, как у нас: это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно ненастоящие. Кажется мне, — постукивают в них кости.
— Жирнову, что ли? — спрашивает у народа Горкин.
— Ему-покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и «дом» сготовили!
Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб, «жирновский». Снизу он — как колода, темный, на искрасна-золоченых пятках, жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках, между золочеными скобами, набиты херувимы из позлащенной жести, с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь… Вкладывают шумящую перинку, — через реденький коленкор сквозится сено, — жесткую мертвую подушку, поднимают подбитую атласом крышку и глухо хлопают в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло у херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с краю и кричит Горкину:
— Гробок-то! Сам когда-а еще у меня дубок пометил, Царство ему Небесное, а нам поминки!.. Ну, с Господом.
В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки оборки… и стук пустоты в ушах. А благовест призывает — по-мни… по-мни…
— В Писании-то как верно — «человек, яко трава»… — говорит сокрушенно Горкин. — Еще утром вчера у нас с гор катался, Василь-Василич из уважения сам скатывал, а вот… Рабочие его рассказывали, свои блины вчера ел да поужинал-заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался… да кулебячки, да кваску кувшинчик… Встал в четыре часа, пошел в бани попариться для поста, Левон его и парил, у нас, в дворянских… А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел-посинел, пока цирульника привели, пиявки ставить, а уж он го-тов. Теперь уж там…
Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно и они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф.
— Уж постарайся, Сеня, «Помощника»-то, — ласково просит Горкин, — «И прославлю Его, Бог-Отца Моего» поворчи погуще.
— Ладно, поворчу… — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. — В больницу велят ложиться, душит… Октаву теперь Батырину отдали, он уж поведет орган-то, на «Господи Сил, помилуй нас». А на «душе моя» я трону, не беспокойся. А в Благовещенье на кулебячку не забудь позвать, напомни старосте… — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. — С прошлого года вашу кулебячку помню.
— Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгадят? Скажи, на грешники по пятаку дам.
— А за виски?.. Ангелами воспрянут.
В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои одеты в черное. И ризы на престоле великопостные, черное с серебром. И на великом Распятии, до «адамовой головы», — серебряная лента с черным. Темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно-глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощенова, Митриева-трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот — «о, Господи…». Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, и мальчишки стоят у амвона смирно, их не гоняют богаделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят! Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчие начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает, —
По-мо-щник и по-кро-ви-тель
Бысть мне во спасе-ние…
Сей мо-ой Бо-ог…
И начались ефимоны, стояние.
Я слушаю страшные слова: — «увы, окаянная моя душе», «конец приближается», «скверная моя, окаянная моя… душе-блудница… во тьме остави мя, окаянного!..»
Помилуй мя, Бо-же — поми-луй мя!..
Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. «Боже, очисти мя, грешного!» Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй… что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в Чистый Понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки… «Боже, очисти мя, грешного!» Смотрю на диакона, на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе, с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу-помышляю, — и падаю на колени, в страхе.
Душе мо-я… ду-ше-е мо-я-ааа,
Возстани, что спи-иши,
Ко-нец при-бли-жа…аа-ется…
Господи, приближается… Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываюсь — и вижу отца. Он стоит у Распятия. И мне уже не страшно: он здесь, со мной. И вдруг, ужасная мысль: умрет и он!.. Все должны умереть, умрет и он. И все наши умрут, и Василь-Василич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете?.. «Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли!» — молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои — в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах в Зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают, о чае с горячими баранками… На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай… «Господи Сил»…» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавой —
Го-споди Си-ил
Поми-луй на-а…а…ас!
На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит на амвон батюшка, долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот, начинает, воздыхающим голосом:
Господи и Владыко живота моего…
Все падают трижды на колени и потом замирают, шепчут. Шепчу и я — ровно двенадцать раз: «Боже, очисти мя, грешного…» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке. Я знаю, кто. Прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно.
Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги. Отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина, сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медяки, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. И в храме тени, неслышно ходят. У Распятия теплится синяя лампада, грустная. «Он воскреснет! И все воскреснут!» — думается во мне, и горячие струйки бегут из души к глазам. — Непременно воскреснут! А это… только на время страшно…»
Дремлет моя душа, устала…
— Крестись, и пойдем… — пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. — Устал? А завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничка куплю.
Уже совсем темно, но фонари еще не горят, — так, мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, — к теплу пойдет. В лубяные сани валят ковриги с грохотом; только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка. И Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок: на говенье одни сухарики. К лавке Базыкина и смотреть боюсь, только уголочком глаза; там яркий свет, «молнию» зажгли, должно быть. Еще кому-то?.. Да нет, не надо…
— Глянь-ко, опять мотается! — весело говорит Горкин. — Он самый, у бассейны-то!..
У сизой бассейной башни, на середине площади, стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары.
— Никак все с шарами не развяжется!.. — смеются люди.
— Это я-та не развяжусь?! — встряхиваясь, кричит парень и хватает свои шары. — Я-та?.. этого дерьма-та?! На!..
Треснуло, — и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули.
— Вот и развязался! Завтра грыбами заторгую… а теперь чай к Митреву пойдем пить… шабаш!..
— Вот и очистился… ай да парень! — смеется Горкин. — Все грехи на небо полетели.
И я думаю, что парень — молодчина. Грызу еще теплый грешник, поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, — первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче…
— Нет, не галки это, — говорит, прислушиваясь, Горкин, — грачи летят. По гомону их знаю… самые грачи, грачики. Не ростепель, а весна. Теперь по-шла!..
У Муравлятникова пылают печи. В проволочное окошко видно, как вываливают на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки.
— Эй, Мураша… давай-ко ты нам с ним горячих вязочку… с пылу с жару, на грош пару!
Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих.
— С Великим Постом, кушайте, сударь, на здоровьице… самое наше постное угощенье — бараночки-с.
Я радостно прижимаю горячую вязочку к груди, у шеи. Пышет печеным жаром, баранками, мочалой теплой. Прикладываю щеки — жжется. Хрустят, горячие. А завтра будет чудесный день! И потом, и еще потом, много-много, — и все чудесные.
Мартовская капель
…кап… кап-кап… кап… кап-кап-кап…
Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно, мягко — это весеннее, обещающее — кап-кап… Это не скучный дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это веселая мартовская капель. Она вызывает солнце. Теперь уж везде капель:
Под сосенкой — кап-кап…
Под елочкой — кап-кап…
Прилетели грачи, — теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками — пескариков, налимов, — принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят; возьмется дружно — поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут… будем на плотиках кататься.
В тревожно-радостном полусне слышу я это, все торопящееся — кап-кап… Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать.
..кап-кап… кап-кап-кап… кап-кап…
Уже тараторит по железке, попрыгивает-пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — «взялась!». Конечно, весна взялась. Протираю глаза спросонок, и меня ослепляет светом. Полог с моей кроватки сняли, когда я спал, — в доме большая стирка, великопостная, — окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой уж теперь и пост, если пришла весна. Вон как капель играет… — тра-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку, в самый «город», на грибной рынок, где — все говорят — как праздник.
Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотники. По таким полосам, от Бога, спускаются с неба Ангелы, — я знаю по картинкам. Если бы к нам спустился!
На крашеном полу и на лежанке лежат золотые окна, совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачны, что даже пузырики-глазочки видны и пятнышки… и зайчики, голубой и красный! Но откуда же эти зайчики и почему так бьются? Да это совсем не зайчики, а как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно — шары! — Это мои шары гуляют: вьются за форточкой, другой уже день гуляют: я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце, и солнце их делает живыми. И так чудесно! Это они играют на лежанке, как зайчики, — ну, совсем, как пасхальные яички, только очень большие и живые, чудесные. Воздушные яички — я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху. Будто они спустились с неба, как Ангелы.
А блеска все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник. Угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит. А графин на лежанке светится разноцветными огнями. А милые обои… Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались, — это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах, — самые веселые обои. И пушечка моя, как золотая… и сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто, вьются, как золотые нитки. Весна, весна!..
И шум за окном, особенный.
Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей и грохот… — не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василь-Василича, будто кричит в подушку, но стекла все-таки дребезжат:
— Эй, смотри у меня, робята… к обеду чтобы!..
Слышен и голос Горкина, как комарик:
— Снежком-то, снежком… поддолбливай!
Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили.
Я перебегаю, босой, к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого-голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца, — весь двор завален. И сизые голубки на нем: им и деваться некуда! В тени он синий и снеговой, свинцовый. А в солнце — зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки… Возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются:
— Черти, не напирай!.. Швыряй, не засти!..
Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль.
— Порожняки, отъезжай… черти!.. — кричит Василь-Василич, попрыгивая по глыбам. — Стой… который?.. Сорок семой, давай!..
Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой; такая горячая работа, спешка: весна накрыла. Ишь, как спешит капель — барабанит, как ливень дробный. А Василь-Василич совсем по-летнему — в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашиком по глыбам, возки считает. Носятся над ним голуби, испуганные гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед: на сараях стоят с лопатами и швыряют-швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко, над Барминихиным садом с бузиною, и так припекает через стекла, как будто лето. Я открываю форточку. Ах, весна!.. Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу — рекою пахнет, живой рекою!..
В одном пиджаке, без шапки, вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться: машет смешно руками. Расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василь-Василичем, и вдруг — толкает. Василь-Василич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочут, играют новенькими лопатами — летит и пушится снег, залепляет Василь-Василича. Он с трудом выбирается, весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин, в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу: одеваться велит, должно быть. Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть в форточку… но сейчас загрозит отец, а смотреть в форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все, от капель, качаются… — и хочется покачаться с ними. Почки на тополе набухли. Слышу, отец кричит:
— Ну, будет баловаться… Поживей-поживей, ребята… к обеду чтоб все погреба набить, под нос будет!
С крыши ему кричат:
— Нам не под нос, а в самый бы роток попало! Ну-ка, робят, уважим хозяину, для весны!
…И мы хо-зяину ува-жим,
Ро-бо-теночкой до-ка-жим…
Подхватывают знакомое, которое я люблю: это поют, когда забивают сваи. Но отец велит замолчать:
— Ну, не время теперь, ребята… пост!
— Огурчики да копустку охочи трескать, и без песни поспеете! — поокивает Василь-Василич.
Кипит работа: грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка-щебень — на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По обталому грязному двору тянется белая дорога от салазок, ярко белеют комья.
— Гляди… там!.. — кричат где-то, над головой.
Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, — и за окном темнеет в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасывают снег с дома! Сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю-любуюсь: совсем метель, даже не видно солнца, — такая радость!
К обеду — ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты. Молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые и от снега, и от пота, похрустывают они на воле крепкими, со льду, огурцами, белыми кругами редьки, залитой конопляным маслом, заедают ломтями хлеба, — словно снежком хрустят. Хоть и Великий Пост, но и Горкин не говорит ни слова: так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах, на солнышке, слушают, как идет капель. А она уже не идет, а льется. В самый-то раз поспели: поест снежок.
— Горы какие были… а все упрятали!
Спрятались в погреба все горы. Ну, будто в сказке: Василиса-Премудрая сказала.
Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда — весной. Вон уж и коновал заходит, цыган Задорный, страшный с своею сумкой, — кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин: не годится на кровь глядеть.
По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают присыпанный лошадьми овес. С крыш уже прямо льет, и на заднем дворе, у подтаявших штабелей сосновых, начинает копиться лужа — верный зачин весны. Ждут ее — не дождутся вышедшие на волю утки: стоят и лущат носами жидкий с воды снежок, часами стоят на лапке. А невидные ручейки сочатся. Смотрю и я: скоро на плотике кататься. Стоит и Василь-Василич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину:
— Ругаться опять будет, а куда ее, шельму, денешь! Совсюду в ее текет, так уж устроилось. И на самом-то на ходу… передки вязнут, досок не вывезешь. Опять, лешая, набирается!..
— И не трожь ее лучше, Вася… — советует и Горкин. — Спокон веку она живет. Так уж тут ей положено. Кто ее знает… может, так, ко двору прилажена!.. И глядеть привычно, и уточкам разгулка…
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают чурбачки.
— И до нас была, Господь с ней… оставь.
А Василь-Василич все думает. Ходит и крякает, выдумать ничего не может: совсюду стек! Подкрякивают ему и утки: так-так… так-так… Пахнет от них весной, весеннею теплой кислотцою… Потягивает из-под навесов дегтем: мажут там оси и колеса, готовят выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острою кислотцою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, — от спокойного старого двора.
— Была как — пущай и будет так! — решает Василь-Василич. — Так и скажу хозяину.
— Понятно, так и скажи: пущай ее остается так.
Подкрякивают и утки, радостные, — так-так… так-так… И капельки с сараев радостно тараторят наперебой — кап-кап-кап… И во всем, что ни вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне — так-так. И безмятежно отстукивает сердце — так-так…
Постный рынок
Велено запрягать Кривую, едем на постный рынок.
Кривую запрягают редко, она уже на спокое, и ее очень уважают. Кучер Антипушка, которого тоже уважают и который теперь — «только для хлебушка», рассказывал мне, как уважают Кривую лошади: «ведешь мимо ее денника, всегда посуются-фыркнут! поклончик скажут… а расшумятся если, она стукнет ногой — тише, мол! и все и затихнут». Антип все знает. У него борода, как у святого, а на глазу бельмо: смотрит все на кого-то, а никого не видно.
Кривая очень стара. Возила еще прабабушку Устинью, а теперь только нас катает, или по особенному делу — на Болото за яблочками на Спаса, или по первопутке — снежком порадовать, или — на постный рынок. Антип не соглашается отпускать, говорит — тяжела дорога, подседы еще набьет от грязи, да чего она там не видала… Но Горкин уговаривает, что для хорошего дела надо, и всякий уж год ездит на постный рынок, приладилась и умеет с народом обходиться, а Чалого закладать нельзя — закидываться начнет от гомона, с ним беда. Кривую выводят под попонкой, густо мажут копытца и надевают суконные ногавки. Закладывают в лубяные санки и дугу выбирают тонкую и легкую сбрую, на фланелье. Кривая стоит и дремлет. Она широкая, темно-гнедая с проседью; по раздутому брюху — толстые, как веревки, жилы. Горкин дает ей мякиша с горкой соли, а то не сдвинется, прабабушка так набаловала. Антип сам выводит за ворота и ставит головой так, куда нам ехать. Мы сидим с Горкиным, как в гнезде, на сене. Отец кричит в форточку: «там его Антон на руки возьмет, встретит… а то еще задавят!» Меня, конечно. Весело провожают, кричат — «теперь, рысаки, держись!». А Антип все не отпускает:
— Ты, Михаила Панкратыч, уж не неволь ее, она знает. Где пристанет — уж не неволь, оглядится — сама пойдет, не неволь уж. Ну, час вам добрый.
Едем, постукивая на зарубках, — трах-трах. Кривая идет ходко, даже хвостом играет. Хвост у ней реденький, в крупу пушится звездочкой. Горкин меня учил: «и в зубы не гляди, а гляди в хвост: коли репица ежом — не вытянет гужом, за два-десять годков клади!» Лавочники кричат — «станция-Петушки!». Как раз Кривая и останавливается, у самого Митриева трактира: уж так привыкла. Оглядится — сама пойдет, нельзя неволить. Дорога течет, едем, как по густой ботвинье. Яркое солнце, журчат канавки, кладут переходы-доски. Дворники, в пиджаках, тукают в лед ломами. Скидывают с крыш снег. Ползут сияющие возки со льдом. Тихая Якиманка снежком белеет, Кривая идет ходчей. Горкин доволен — денек-то Господь послал! — и припевает даже:
Едет Ваня из Рязани,
Полтораста рублей сани,
Семисотельный конь,
С позолоченной дугой!
На Кривую подмигивает, смеется.
Кабы мне таку дугу,
Да купить-то невмогу,
Кину-брошу вожжи врозь —
Э-коя досада!
У Канавы опять станция — Петушки: Антип махорочку покупал, бывало. Потом у Николая-Чудотворца, у Каменного Моста: прабабушка свечку ставила. На Москва-реке лед берут, видно лошадок, саночки и зеленые куски льда, — будто постный лимонный сахар. Сидят вороны на сахаре, ходят у полыньи, полощутся. Налево, с моста, обставленный лесами, еще бескрестный, — великий Храм: купол Христа Спасителя сумрачно золотится в щели; скоро его раскроют.
— Стропила наши, под кумполом-то, — говорит к Храму Горкин, — нашей работки ту-ут!.. Государю Александре Миколаичу, дай ему Бог поцарствовать, генерал-губернатор папашеньку приставлял, со всей ортелью! Я те расскажу потом, чего наш Мартын-плотник уделал, себя Государю доказал… до самой до смерти покойник помнил. Во всех мы дворцах работали, и по Кремлю. Гляди, Кремль-то наш, нигде такого нет. Все соборы собрались, Святители-Чудотворцы… Спас-на-Бору, Иван Великий, Золота Решетка… А башни-то каки, с орлами! И татары жгли, и поляки жгли, и француз жег, а наш Кремль все стоит. И довеку будет. Крестись.
На середине моста Кривая опять становится.
— Это прабабушка твоя Устинья все тут приказывала пристать, на Кремль глядела. Сколько годов, а Кривая все помнит! Поглядим и мы. Высота-то кака, всю оттоль Москву видать. Я те на Пасхе свожу, дам все понятие… все соборы покажу, и Честное-Древо, и Христов Гвоздь, все будешь разуметь. И на колокольню свожу, и Царя-Колокола покажу, и Крест Харсунской, исхрустальной, сам Царь-Град прислал. Самое наше святое место, святыня самая.
Весь Кремль — золотисто-розовый, над снежной Москва-рекой. Кажется мне, что там — Святое, и нет никого людей. Стены с башнями — чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо.
Окна розового дворца сияют. Белый собор сияет. Золотые кресты сияют — священным светом. Все — в золотистом воздухе, в дымном-голубоватом свете: будто кадят там ладаном…
Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дынные облачка за ними, и эта моя река, и черные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов… — были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен… когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат… — все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны… — все мнится былью, моей былью… — будто во сне забытом.
Мы смотрим с моста. И Кривая смотрит — или дремлет? Я слышу окрик, — «ай примерзли?» — узнаю Чалого, новые наши сани и молодого кучера Гаврилу. Обогнали нас. И вон уже где, под самым Кремлем несутся, по ухабам! Мне стыдно, что мы примерзли. Да что же, Горкин?.. Будочник кричит — «чего заснули?» — знакомый Горкину. Он старый, добрый. Спрашивает-шутит:
— Годков сто будет? Где вы такую раскопали, старей Москва-реки?
Горкин просит:
— И не маши лучше, а то и до вечера не стронет!
Подходят люди: чего случилось? Смеются: «помирать, было, собралась, да бутошника боится!» Кривую гладят, подпирают санки, но она только головой мотает — не желает. Говорят — «за польцимейстером надо посылать!».
— Ладно, смейся… — начинает сердиться Горкин, — она поумней тебя, себя знает.
Кривая трогается. Смеются: «гляди, воскресла!..»
— Ладно, смейся. Зато за ней никакой заботы… поставим, где хотим, уйдем, никто и не угонит. А гляди — домой помчит… ветру не угнаться!
Едем под Кремлем, крепкой еще дорогой, зимней. Зубцы и щели… и выбоины стен говорят мне о давнем-давнем. Это не кирпичи, а древний камень, и на нем кровь, святая. От стен и посейчас пожаром пахнет. Ходили по ним Святители, Москву хранили. Старые Цари в Архангельском Соборе почивают, в подгробницах. Писано в старых книгах — «воздвижется Крест Харсунский, из Кремля выйдет в пламени», — рассказывал мне Горкин.
— А это — Башня Тайницкая, с подкопом. С нее пушки палят, в Крещенье, когда на Ердань ходят.
Народу гуще. Несут вязки сухих грибов, баранки, мешки с горохом. Везут на салазках редьку и кислую капусту. Кремль уже позади, уже чернеет торгом. Доносит гул. Черно, — до Устьинского моста, дальше.
Горкин ставит Кривую, закатывает на тумбу вожжи. Стоят рядами лошадки, мотают торбами. Пахнет сенцом на солнышке, стоянкой. От голубков вся улица — живая, голубая. С казенных домов слетаются, сидят на санках. Под санками в канавке плывут овсинки, наерзывают льдышки. На припеке яснеют камушки. Нас уже поджидает Антон Кудрявый, совсем великан, в белом, широком полушубке.
— На руки тебя приму, а то задавят, — говорит Антон, садясь на корточки, — папашенька распорядился. Легкой же ты, как муравейчик! Возьмись за шею… Лучше всех увидишь.
Я теперь выше торга, кружится подо мной народ. Пахнет от Антона полушубком, баней и… пробками. Он напирает, и все дают дорогу; за нами Горкин. Кричат: «ты, махонький, потише! колокольне деверь!» А Антон шагает — эй, подайся!
Какой же великий торг!
Широкие плетушки на санях, — все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные короба и в ведра, тащат на головах.
— Самопервеющая клюква! Архангельская клюкыва!..
— Клю-ква… — говорит Антон, — а по-нашему и вовсе журавиха.
И синяя морошка, и черника — на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!
— Вот он, горох, гляди… хороший горох, мытый.
Розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники — народ веселый, свои, ростовцы. У Горкина тут знакомцы. «А, наше вашим… за пуколкой?» — «Пост, надоть повеселить робят-то… Серячок почем положишь?» — «Почем почемкую — потом и потомкаешь!» — «Что больно несговорчив, боготеешь?» Горкин прикидывает в горсти, кидает в рот. — «Ссыпай три меры». Белые мешки, с зеленым, — для ветчины, на Пасху. — «В Англию торгуем… с тебя дешевше».
А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают — не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, — «как сахар!». Откусишь — щелкнет.
А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком. Антон дает мне тонкий, крепкий, с пупырками; хрустит мне в ухо, дышит огурцом.
— Весело у нас, постом-то? а? Как ярмонка. Значит, чтобы не грустили. Так, что ль?.. — жмет он меня под ножкой.
А вот вороха морковки — на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарная, как арбуз. Кадка соленого арбуза под капусткой поблескивает зеленой плешкой.
— Редька-то, гляди, Панкратыч… чисто боровки! Хлебца с такой умнешь!
— И две умнешь, — смеется Горкин, забирая редьки.
А вон — соленье; антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках… Квас всякий — хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний — с имбирем…
— Сбитню кому, горячего сбитню, угощу?..
— А сбитню хочешь? А, пропьем с тобой семитку. Ну-ка, нацеди.
Пьем сбитень, обжигает.
— Постные блинки, с лучком! Грещ-щневые-ллуковые блинки!
Дымятся луком на дощечках, в стопках.
— Великопостные самые… сах-харные пышки, пышки!..
— Грешники-черепенники горря-чи, горрячи греш-нички!..
Противни киселей — ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, — сахарные, розовые, горчичные, с анисом — с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…
Везде — баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Роются голуби в баранках, выклевывают серединки, склевывают мачок. Мы видим нашего Мурашу, борода в лопату, в мучной поддевке. На шее ожерелка из баранок. Высоко, в баранках, сидит его сынишка, ногой болтает.
— Во, пост-то!.. — весело кричит Мураша, — пошла бараночка, семой возок гоню!
— Сби-тню, с бараночками… сбитню, угощу кого…
Ходят в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.
— Ешь, Москва, не жалко!..
А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. «Малиновый, золотистый, — показывает Горкин, — этот называется печатный, энтот — стеклый, спускной… а который темный — с гречишки, а то господский светлый, липнячок-подсед». Липонки, корыта, кадки. Мы пробуем от всех сортов. На бороде Антона липко, с усов стекает, губы у меня залипли. Будочник гребет баранкой, диакон — сайкой. Пробуй, не жалко! Пахнет от Антона медом, огурцом.
Черпают черпаками, с восковиной, проливают на грязь, на шубы. А вот — варенье. А там — стопками ледяных тарелок — великопостный сахар, похожий на лед зеленый, и розовый, и красный, и лимонный. А вон, чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила… и пряники, пряники — нет конца.
— На тебе постную овечку, — сует мне беленький пряник Горкин.
А вот и масло. На солнце бутыли — золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное… Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.
Я слышу всякие имена, всякие города России. Кружится подо мной народ, кружится голова от гула. А внизу тихая белая река, крохотные лошадки, санки, ледок зеленый, черные мужики, как куколки. А за рекой, над темными садами, — солнечный туманец тонкий, в нем колокольни-тени, с крестами в искрах, — милое мое Замоскворечье.
— А вот, лесная наша говядинка, грыб пошел!
Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Проходим в гомоне.
— Лопаснинские, белей снегу, чище хрусталю! Грыбной елараш, винегретные… Похлебный грыб сборный, ест протопоп соборный! Рыжики соленые-смоленые, монастырские, закусочные… Боровички можайские! Архиерейские грузди, нет сопливей!.. Лопаснинскне отборные, в медовом уксусу, дамская прихоть, с мушиную головку, на зуб неловко, мельчей мелких!..
Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины…
— Теперь до Устьинского пойдет, — грыб и грыб! Грыбами весь свет завалим. Домой пора.
Кривая идет ходчей. Солнце плывет к закату, снег на реке синее, холоднее.
— Благовестят, к стоянию торопиться надо, — прислушивается Горкин, сдерживая Кривую, — в Кремлю ударили?..
Я слышу благовест, слабый, постный.
— Под горкой, у Константина-Елены. Колоколишко у них ста-ренький… ишь, как плачет!
Слышится мне призывно — по-мни… по-мни… и жалуется как будто.
Стоим на мосту, Кривая опять застряла. От Кремля благовест, вперебой, — другие колокола вступают. И с розоватой церковки, с мелкими главками на тонких шейках, у Храма Христа Спасителя, и по реке, подальше, где Малюта Скуратов жил, от Замоскворечья, — благовест: все зовут. Я оглядываюсь на Кремль; золотится Иван Великий, внизу темнее, и глухой — не его ли — колокол томительно позывает — по-мни!..
Кривая идет ровным, надежным ходом, и звоны плывут над нами.
Помню.
Благовещенье
А какой-то завтра денечек будет?.. Красный денечек будет — такой и на Пасху будет. Смотрю на небо — ни звездочки не видно.
Мы идем от всенощной, и Горкин все напевает любимую молитвочку: «…благодатная Мария, Господь с Тобо-ю…» Светло у меня на душе, покойно. Завтра праздник такой великий, что никто ничего не должен делать, а только радоваться, потому что если бы не было Благовещенья, никаких бы праздников не было Христовых, а как у турок. Завтра и поста нет: уже был «перелом поста — щука ходит без хвоста». Спрашиваю у Горкина: «а почему без хвоста?»
— А лед хвостом разбивала и поломала, теперь без хвоста ходит. Воды на Москва-реке на два аршина прибыло, вот-вот ледоход пойдет. А денек завтра ясный будет! Это ты не гляди, что замолаживает… это снега дышут-тают, а ветерок-то на ясную погоду.
Горкин всегда узнает, по дощечке: дощечка плотнику всякую погоду скажет. Постукает горбушкой пальца, звонко если — хорошая погода. Сегодня стукал: поет дощечка! Благовещенье… и каждый должен обрадовать кого-то, а то праздник не в праздник будет. Кого ж обрадовать? А простит ли отец Дениса, который пропил всю выручку? Денис живет на реке, на портомойне, собирает копейки в сумку — и эти копейки пропил. Сколько дней сидит у ворот на лавочке и молчит. Когда проходит отец, он вскакивает и кричит по-солдатски — здравия желаю! А отец все не отвечает, и мне за него стыдно. Денис — солдат, какой-то «гвардеец», с серебряной серьгой в ухе. Сегодня что-то шептался с Горкиным и моргал. Горкин сказал — «попробуй, ладно… живой рыбки-то не забудь!» Денис знаменитый рыболов, приносит всегда лещей, налимов, — только как же теперь достать?
— Завтра с тобой и голубков, может, погоняем… первый им выгон сделаем. Завтра и голубиный праздничек, Дух-Свят в голубке сошел. То на Крещенье, а то на Благовещенье. Богородица голубков в церковь носила, по Ее так и повелось.
И ни одной-то не видно звездочки!
Отец зовет Горкина в кабинет. Тут Василь-Василич и «водяной» десятник. Говорят о воде: большая вода, беречься надо.
— По-нятно надо, о-пасливо… — поокивает Горкин, трясет бородкой. — Нонче будет из вод вода, кока весна-то! Под Ильинским барочки наши с матерьяльцем, с балочками. Упаси Бог, льдом по-режет… да под Роздорами как разгонит на заверти да в поленовские, с кирпичом, долбанет… — тогда и Краснохолмские наши, и под Симоновом, — все побьет-покорежит!..
Интересно, до страху, слушать.
— В ночь чтобы якорей добавить, дать депешу ильинскому старшине, он на воду пошлет, и якоря у него найдутся… — озабоченно говорит отец. — Самому бы надо скакать, да праздник такой, Благовещенье… Как, Василь-Василич, скажешь? Не попридержит?..
— Сорвать — ране трех день, не должно бы никак сорвать, глядя по воде. Будь-п-койны-с, морозцем прихватит ночью, посдержит-с, пообождет для праздника. Уж отдохните. Как говорится, завтра птица гнезда не вьет, красна девка косы не плетет! Наказал Павлуше-десятнику там, в случае угрожать станет, — скакал чтобы во всю мочь, днем ли, ночью, чтобы нас вовремя упредил. А мы тут переймем тогда, с мостов забросными якорьками схватим… нам не впервой-с.
— Не должно бы сорвать-с… — говорит и водяной десятник, поглядывая на Василь-Василича. — Канаты свежие, причалы крепкие…
Горкин задумчив что-то, седенькую бородку перебирает-тянет. Отец спрашивает его: а? как?..
— Снега, большие. Будет напор — сорвет. Барочки наши свежие… коль на бык у Крымского не потрафят — тогда заметными якорьками можно поперенять, ежели как задастся. Силу надо страшенную, в разгоне… Без сноровки никакие канаты не удержат, порвет, как гнилую нитку! Надо ее до мосту захватить, да поворот на быка, потерлась чтобы, а тут и перехватить на причал. Дениса бы надо, ловчей его нет… на воду шибко дерзкий.
— Дениса-то бы на что лучше! — говорят Василь-Василич и водяной десятник. — Он на дощанике подойдет сбочку, с молодцами, с дороги ее пособьет в разрез воды, к бережку скотит, а тут уж мы…
— Пьяницу-вора?! Лучше я барки растеряю… матерьял на цепях, не расшвыряет… а его, сукинова-сына, не допущу! — стучит кулаком отец.
— Уж как каится-то, Сергей Иваныч… — пробует заступиться Горкин, — ночей не спит. Для праздника такого…
— И Богу воров не надо. Ребят со двора не отпускать. Семен на реке ночует, — тычет отец в десятника, — на всех мостах чтобы якоря, новые канаты. Причалы глубоко врыты, крепкие?..
Долго они толкуют, а отец все не замечает, что пришел я прощаться — ложиться спать. И вдруг зажурчало под потолком, словно гривеннички посыпались.
— Тсс! — погрозил отец, и все поглядели кверху.
Жавороночек запел!
В круглой высокой клетке, затянутой до половины зеленым коленкором, с голубоватым «небом», чтобы не разбил головку о прутики, неслышно проживал жавороночек. Он висел больше года и все не начинал петь. Продал его отцу знаменитый птичник Солодовкин, который ставит нам соловьев и канареек. И вот, жавороночек запел, запел-зажурчал, чуть слышно.
Отец привстает и поднимает палец; лицо его сияет.
— Запел!.. А, шельма — Солодовкин, не обманул! Больше года не пел.
— Да явственно как поет-с, самый наш, настоящий! — всплескивает руками Василь-Василич. — Уж это, прямо, к благополучию. Значит, под самый под праздник, обрадовал-с. К благополучию-с.
— Под самое под Благовещенье… точно что обрадовал. Надо бы к благополучию, — говорит Горкин и крестится.
Отец замечает, что и я здесь, и поднимает к жавороночку, но я ничего не вижу. Слышится только трепыханье да нежное-нежное журчанье, как в ручейке.
— Выиграл заклад, мошенник! На четвертной со мной побился, — весело говорит отец, — через год к весне запоет. Запел!..
— У Солодовкина без обману, на всю Москву гремит, — радостно говорит и Горкин. — Посулился завтра секрет принесть.
— Ну, что Бог даст, а пока ступайте.
Уходят. Жавороночек умолк. Отец становится на стул, заглядывает в клетку и начинает подсвистывать. Но жавороночек, должно быть, спит.
— Слыхал, чижик? — говорит отец, теребя меня за щеку. — Соловей — это не в диковинку, а вот жавороночка заставить петь, да еще ночью… Ну, удружил, мошенник!
Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, рядом, гремит ведерко, и слышится плеск воды! «Погоди… держи его так, еще убьется…» — слышу я, говорит отец. — «Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы…» — слышится голос Горкина. А, соловьев купают, и я торопливо одеваюсь.
Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в спальной канарейки, в проходной комнате — скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на покое, весь лысый, чижик, который пищит — «чулки-чулки-паголенки», когда застучат посудой. В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома.
Я выхожу в переднюю. Отец еще не одет, в рубашке, — так он мне еще больше нравится. Засучив рукава на белых руках с синеватыми жилками, он берет соловья в ладонь, зажимает соловью носик и окунает три раза в ведро с водой. Потом осторожно встряхивает и ловко пускает в клетку. Соловей очень смешно топорщится, садится на крылышки и смотрит, как огорошенный. Мы смеемся. Потом отец запускает руку в стеклянную банку от варенья, где шустро бегают черные тараканы и со стенок срываются на спинки, вылавливает — не боится, и всовывает в прутья клетки. Соловей будто и не видит, таракан водит усиками, и… тюк! — таракана нет. Но я лучше люблю смотреть, как бегают тараканы в банке. С пузика они буренькие и в складочках, а сверху черные, как сапог, и с блеском. На кончиках у них что-то белое, будто сальце, и сами они ужасно жирные. Пахнут как будто ваксой или сухим горошком. У нас их много, к прибыли — говорят. Проснешься ночью, и видно при лампадке — ползает чернослив как будто. Ловят их в таз на хлеб, а старая Домнушка жалеет. Увидит — и скажет ласково, как цыпляткам: «ну, ну… шши!» И они тихо уползают.
Соловьев выкупали и накормили. Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из банки в форточку: свежие приползут. И вот, я вижу — по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, доходит, — и ставит у ног ведро.
— Имею честь поздравить с праздником! — кричит он по-солдатски, храбро. — Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы… всю ночь надрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополью. Прикажете на кухню?
Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его брюхо лоснится.
— Фунтика на полтора налимчик, за редкость накрыть такого… — дивится Горкин и сам запускает руку. — Да каки подлещики-то, гляди-ты, и рака захватил!..
— Цельная тройка впуталась, таких в трактире не подадут! — говорит Денис. — На дощанике между льду все ползал, где потише. И еще там ведерко, с белью больше, есть и налимчишки на подвар, щуренки, головлишки…
Лицо у Дениса вздутое, глаза красные, — видно, всю ночь ловил.
— Ладно, снеси… — говорит отец, ерзая по привычке у кармашка, а жилеточного кармашка нет. — А за то, помни, вычту! Выдай ему, Панкратыч, на чай целковый. Ну, марш, лешая голова, мошенник! Постой, как с водой?
— Идет льдинка, а главного не видать, можайского, но только понос большой. В прибыли шибко, за ночь вершков осьмнадцать. А так весело, ничего.. Теперь не беспокойтесь, уж доглядим.
— Смотри у меня, сегодня не настарайся! — грозит отец.
— Рад стараться, лишь бы не… надорваться! — вскрикивает Денис и словно проваливается в кухню.
А я дергаю Горкина и шепчу: «это ты сказал, я слышал, про рыбку! Тебя Бог в рай возьмет!» Он меня тоже дергает, чтобы я не кричал так громко, а сам смеется. И отец смеется. А налим — прыг из оставленного ведра, и запрыгал по лестнице, — держи его!
Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из Синода! Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе, — «за доброусердие при ктиторе». Горкин растрогался, поцеловал обе руки у батюшки, и с отцом крепко расцеловался, и с многими. Стоял за свечным ящиком и тыкал в глаза платочком. Отец смеется: «и в ошейнике ходит, а не лает!» Медаль серебряная, «в три пуда». Третья уже медаль, а две — «за хоругви присланы». Но эта — дороже всех: «за доброусердие ко Храму Божию». Лавочники завидуют, разглядывают медаль. Горкин показывает охотно, осторожно, и все целует, как показать. Ему говорят: «скоро и почетное тебе гражданство выйдет!» А он посмеивается: «вот почетное-то, оно».
У лавки стоит низенький Трифоныч, в сереньком армячке, седой. Я вижу одним глазком: прячет он что-то сзади. Я знаю что: сейчас поднесет мне кругленькую коробочку из жести, фруктовое монпансье «ландрин». Я даже слышу — новенькой жестью пахнет и даже краской. И почему-то стыдно идти к нему. А он все манит меня, присаживается на корточки и говорит так часто:
— Имею честь поздравить с высокорадостным днем Благовещения, и пожалуйте пальчик, — он цепляет мизинчик за мизинчик, подергает и всегда что-нибудь смешное скажет: — От Трифоныча-Юрцова, господина Скворцова, ото всего сердца, зато без перца… — и сунет в руку коробочку.
А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в отрепанном пальтеце, кажется — очень бедный. Но говорит, как важный, и здоровается с отцом за руку.
— Поздравь Горку нашу, — говорит отец, — дали ему медаль в три пуда!
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. «Только не возгордился бы», — говорит.
— У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Принес тебе, Сергей Иваныч, тенора-певца-Усатова, из Большого Театра прямо. Слыхал ты его у Егорова в Охотном, облюбовал. Сделаем ему лепетицию.
— Идем чай пить с постными пирогами, — говорит отец. — А принес мелочи… записку тебе писал?
Солодовкин запускает руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку.
— Бери в руку. Держи — не мни… — говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих — «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»? Так, молодец. А — «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая. Пускай!..
Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках. Я разжимаю пальцы и слышу — пырхх… — но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, села… — и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: «иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь-Василич, очень парадный, в сияющих сапогах — в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину — «ну-ка, продай для воли!». Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «для общего удовольствия пускай!» Василь-Василич по-своему пускает — из пригоршни.
— Все. Одни теперь тенора остались, — говорит Солодовкин, — пойдем к тебе чай пить с пирогами. Господина Усатова посмотрим.
Какого — «господина Усатова»? Отец говорит, что есть такой в театре певец. Усатов, как соловей. Кричат на крыше. Это Горкин. Он машет шестиком с тряпкой и кричит — шиш!.. шиш!.. Гоняет голубков, я знаю. С осени не гонял. Мы останавливаемся и смотрим. Белая стая забирает выше, делает круги шире… вертится турманок. Это — чистяки Горкина, его «слабость». Где-то он их меняет, прикупает и в свободное время любит возиться на чердаке, где голубятня. Часто зовет меня, — как праздник! У него есть «монашек», «галочка», «шилохвостый», «козырные», «дутики», «путы-ноги», «турманок», «паленый», «бронзовые», «трубачи», — всего и не упомнишь, но он хорошо всех знает. Сегодня радостный день, и он выпускает голубков — «по воле». Мы глядим, или, пожалуй, слышим, как «галочка-то забирает», как «турманок винтится». От стаи — белый, снежистый блеск, когда она начинает «накрываться» или «идти вертушкой». Нам объясняет Солодовкин. Он кричит Горкину — «галочку подопри, а то накроют!» Горкин кричит пронзительно, прыгает по крыше, как по земле. Отец удерживает — «старик, сорвешься!» Я вижу и Василь-Василича на крыше, и Дениса, и кучера Гаврилу, который бросил распрягать лошадь и ползет по пожарной лестнице. Кричат — «с Конной пустили стаю, пушкинские-мясниковы накроют «галочку»!» — «И с Якиманки выпущены, Оконишников сам взялся, держись, Горкин!» Горкин едва уж машет. Василь-Василич хватает у него гонялку и так наяривает, что стая опять взмывает, забирает над «галочкой», турманок валится на нее, «головку ей крутит лихо», и «галочка» опять в стае — «освоилась». Мясникова стая пролетает на стороне — «утерлась»! Горкин грозит кулаком куда-то, начинает вытирать лысину. Поблескивая, стайка садится ниже, завинчивая полет. Горкин, я вижу, крестится: рад, что прибилась «галочка». Все чистяки на крыше, сидят рядком. Горкин цапается за гребешки, сползает задом.
— Дурак старый… голову потерял, убьешься! — кричит отец.
–…«Га…лочкаааа»… — слышится мне невнятно. — нет другой… «турманишка»… себя не помнит… сменяю подлеца!..
Лужи и слуховые окна пускают зайчиков: кажется, что и солнце играет с нами, веселое, как на Пасху. Такая и Пасха будет!
Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой — называется «благовещенская», на четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, — положена к обеду, а пока — первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-то не распеваются, — может быть, перекормлены? И «Усатов» не хочет петь: «стыдится, пока не обвисится». Юркий и востроносый Солодовкин, похожий на синичку, — так говорит отец, — пьет чай вприкуску, с миндальным молоком и пирогами, и все говорит о соловьях. У него их за сотню, по всем трактирам первой руки, висят «на прослух» гостям и могут на всякое коленце. Наезжают из Санкт-Петербурга даже, всякие — и поставленные, и графы, и… Зовут в Санкт-Петербург к министрам, да туда надобно в сюртуке-параде… А, не стоит!
— Желают господа слушать настоящего соловья, есть и с пятнадцатью коленцами… найдем и «глухариную уркотню», пожалуйте в Москву, к Солодовкину! А в Питере я всех охотников знаю — плень-плень да трень-трень, да фитьюканье, а россыпи тонкой или там перещелка и не проси. Четыре медали за моих да аттестаты. А у Бакастова в Таганке висит мой полноголосый, протодьяконом его кличут… так — скажешь — с ворону будет, а ме-ленький, чисто кенарь. Охота моя, а барышей нет. А «Усатов», как Спасские часы, без пробоя. Вешайте со скворцами — не развратится. Сурьезный соловей сразу нипочем не распоется, знайте это за правило, как равно хорошая собака.
Отец говорит ему, что жавороночек-то… запел! Солодовкин делает в себя, глухо, — ага! — но нисколько не удивляется и крепко прикусывает сахар. Отец вынимает за проспор, подвигает к Солодовкину беленькую бумажку, но тот, не глядя, отодвигает: «товар по цене, цена — по слову». До Николы бы не запел, деньги назад бы отдал, а жавороночка на волю выпустил, как из училища выгоняют, — только бы и всего. Потом показывает на дудочках, как поет самонастоящий жаворонок. И вот, мы слышим — звонко журчит из кабинета, будто звенят по стеклышкам. Все сидят очень тихо. Солодовкин слушает на руке, глаза у него закрыты. Канарейки мешают только…
Вечер золотистый, тихий. Небо до того чистое, зеленовато-голубое, — самое Богородичкино небо. Отец с Горкиным и Василь-Василичем объезжали Москва-реку: порядок, везде — на месте. Мы только что вернулись из-под Новинского, где большой птичий рынок, купили белочку в колесе и чучелок. Вечернее солнце золотом заливает залу, и канарейки в столовой льются на все лады. Но соловьи что-то не распелись. Светлое Благовещенье отходит. Скоро и ужинать. Отец отдыхает в кабинете, я слоняюсь у белочки, кормлю орешками. В форточку у ворот слышно, как кто-то влетает вскачь. Кричат, бегут… Кричит Горкин, как дребезжит: «робят подымай-буди!» — «Топорики забирай!» — кричат голоса в рабочей. — «Срезало все, как ось!» В зал вбегает на цыпочках Василь-Василич, в красной рубахе без пояска, шипит: «не спят папашенька?» Выбегает отец, в халате, взъерошенный, глаза навыкат, кричит небывалым голосом — «Черти!.. седлать Кавказку! всех забирай, что есть… сейчас выйду!..» Василь-Василич грохает с лестницы. На дворе крик стоит. Отец кричит в форточку из кабинета — «эй, запрягать полки, грузить еще якорей, канатов!» Из кабинета выскакивает испуганный, весь в грязи, водолив Аксен, только что прискакавший, бежит вместо коридора в залу, а за ним комья глины: — «Куда тебя понесло, черта?!» — кричит выбегающий отец, хватает Аксена за ворот, и оба бегут по лестнице. На отце высокие сапоги, кургузка, круглая шапочка, револьвер и плетка. Из верхних сеней я вижу, как бежит Горкин, на бегу надевая полушубок, стоят толпою рабочие, многие босиком; поужинали только, спать собирались лечь. Отец верхом, на взбрыкивающей под ним Кавказке, отдает приказания; одни — под Симонов, с Горкиным, другие — под Краснохолмский, с Васильем-Косым, третьи, самые крепыши и побойчей, пока с Денисом, под Крымский мост, а позже и он подъедет, забросные якоря метать — подтягивать. И отец проскакал за ворота.
Я понимаю, что далеко где-то срезало наши барки, и теперь-то они плывут. Водолив с Ильинского проскакал пять часов, — такой-то везде разлив, чуть было не утоп под Сетунькой! — а срезало еще в обедни, и где теперь барки — неизвестно. Полный ледоход от верху, катится вода — за час по четверти. Орут — «эй, топорики-ломики забирай, айда!». Нагружают полки канатами и якорями, — и никого уже на дворе, как вымерло. Отец поскакал на Кунцево через Воробьевы горы. Денис, уводя партию, окрикнул: «эй, по две пары чтобы рукавиц… сожгет!»
Темно, но огня не зажигают. Все сбились в детскую, все в тревоге. Сидят и шепчутся. Слышу — жавороночек опять поет, иду на цыпочках к кабинету и слушаю. Думаю о большой реке, где теперь отец, о Горкине, — под Симоновом где-то…
Едва светает, и меня пробуждают голоса. Веселые голоса, в передней! Я вспоминаю вчерашнее, выбегаю в одной рубашке. Отец, бледный, покрытый грязью до самых плеч, и Горкин, тоже весь грязный и зазябший, пьют чай в передней. Василь-Василич приткнулся к стене, ни на кого не похож, пьет из стакана стоя. Голова у него обвязана. У отца на руке повязка — ожгло канатом. Валит из самовара пар, валит и изо ртов, клубами: хлопают кипяток. Отец макает бараночку, Горкин потягивает с блюдца, почмокивает сладко.
— Ты чего, чиж, не спишь? — хватает меня отец и вскидывает на мокрые колени, на холодные сапоги в грязи. — Поймали барочки! Денис-молодчик на все якорьки накинул и развернул… знаешь Дениса-разбойника, солдата? И Горка наш, старина, и Василь-Косой… все! Кланяйся им, да ниже!.. Порадовали, чер… молодчики! Сколько, скажешь, давать ребятам, а?
И тормошит-тормошит меня.
— А про себя ни словечка… как овечка… — смеется Горкин. — Денис уж сказывал: «кричит — не поймаете, лешие, всем по шеям накостыляю!» Как уж тут не поймать… Ночь, хорошо, ясная была, месячная.
— Черта за рога вытащим, только бы поддержало было! — посмеивается Василь-Василич. — Не ко времени разговины, да тут уж… без закону. Ведра четыре робятам надо бы… Пя-ать?!. Ну, Господь сам видал, чего было.
Отец дает мне из своего стакана, Горкин сует бараночку. Уже совсем светло, и чижик постукивает в клетке, сейчас заведет про паголенки. Горкин спит на руке, похрапывает. Отец берет его за плечи и укладывает в столовой на диване. Василь-Василича уже нет. Отец потирает лоб, потягивается сладко и говорит, зевая:
— А иди-ка ты, чижик, спать?..
Пасха
Пост уже на исходе, идет весна. Прошумели скворцы над садом, — слыхал их кучер, — а на Сорок Мучеников прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Отпекли на Крестопоклонной маковые «кресты», — и вот уж опять она, огромная лужа на дворе. Бывало, отец увидит, как плаваю я по ней на двери, гоняюсь с палкой за утками, заморщится и крикнет:
— Косого сюда позвать!..
Василь-Василич бежит опасливо, стреляя по луже глазом. Я знаю, о чем он думает: «ну, ругайтесь… и в прошлом году ругались, а с ней все равно не справиться!»
— Старший прикащик ты — или… что? Опять у тебя она? Барки по ней гонять?!.
— Сколько разов засыпал-с!.. — оглядывает Василь-Василич лужу, словно впервые видит, — и навозом заваливал, и щебнем сколько транбовал, а ей ничего не делается! Всосет — и еще пуще станет. Из-под себя, что ли, напущает?.. Спокон веку она такая, топлая… Да оно ничего-с, к лету пообсохнет, и уткам природа есть…
Отец поглядит на лужу, махнет рукой.
Кончили возку льда. Зеленые его глыбы лежали у сараев, сияли на солнце радугой, синели к ночи. Веяло от них морозом. Ссаживая коленки, я взбирался по ним до крыши сгрызать сосульки. Ловкие молодцы, с обернутыми в мешок ногами, — а то сапоги изгадишь! — скатили лед с грохотом в погреба, завалили чистым снежком из сада и прихлопнули накрепко творила.
— Похоронили ледок, шабаш! До самой весны не встанет.
Им поднесли по шкалику, они покрякали:
— Хороша-а… Крепше ледок скипится.
Прошел квартальный, велел: мостовую к Пасхе сколоть, под пыль! Тукают в лед кирками, долбят ломами — до камушка. А вот уж и первая пролетка. Бережливо пошатываясь на ледяной канавке, сияя лаком, съезжает она на мостовую. Щеголь-извозчик крестится под новинку, поправляет свою поярку и бойко катит по камушкам с первым веселым стуком.
В кухне под лестницей сидит гусыня-злюка. Когда я пробегаю, она шипит по-змеиному и изгибает шею — хочет меня уклюнуть. Скоро Пасха! Принесли из амбара «паука», круглую щетку на шестике, — обметать потолки для Пасхи. У Егорова в магазине сняли с окна коробки и поставили карусель с яичками. Я подолгу любуюсь ими: кружатся тихо-тихо, одно за другим, как сон. На золотых колечках, на алых ленточках. Сахарные, атласные…
В булочных — белые колпачки на окнах с буковками — X. В. Даже и наш Воронин, у которого «крысы в квашне ночуют», и тот выставил грязную картонку: «принимаются заказы на куличи и пасхи и греческие бабы»! Бабы?.. И почему-то греческие! Василь-Василич принес целое ведро живой рыбы — пескариков, налимов, — сам наловил наметкой. Отец на реке с народом. Как-то пришел веселый, поднял меня за плечи до соловьиной клетки и покачал.
— Ну, брат, прошла Москва-река наша. Плоты погнали!..
И покрутил за щечку.
Василь-Василич стоит в кабинете на порожке. На нем сапоги в грязи. Говорит хриплым голосом, глаза заплыли.
— Будь-п-коины-с, подчаливаем… к Пасхе под Симоновом будут. Сейчас прямо из…
— Из кабака? Вижу.
— Никак нет-с, из этого… из-под Звенигорода, пять ден на воде. Тридцать гонок березняку, двадцать сосны и елки, на крылах летят-с!.. И барки с лесом, и… А у Паленова семнадцать гонок вдрызг расколотило, вроссыпь! А при моем глазе… у меня робята природные, жиздринцы!
Отец доволен: Пасха будет спокойная. В прошлом году заутреню на реке встречали.
— С Кремлем бы не подгадить… Хватит у нас стаканчиков?
— Тыщонок десять набрал-с, доберу! Сала на заливку куплено. Лиминацию в три дни облепортуем-с. А как в приходе прикажете-с? Прихожане летось обижались, лиминации не было. На лодках народ спасали под Доргомиловом… не до лиминации!..
— Нонешнюю Пасху за две справим!
Говорят про щиты и звезды, про кубастики, шкалики, про плошки.. про какие-то «смолянки» и зажигательные нитки.
— Истечение народа будет!.. Приман к нашему приходу-с.
— Давай с ракетами. Возьмешь от квартального записку на дозволение. Сколько там надо… понимаешь?
— Красную ему за глаза… пожару не наделаем! — весело говорит Василь-Василич. — Запущать — так уж запущать-с!
— Думаю вот что… Крест на кумполе, кубастиками бы пунцовыми?..
— П-маю-с, зажгем-с. Высоконько только?.. Да для Божьего дела-с… воздаст-с! Как говорится, у Бога всего много.
— Щит на крест крепить Ганьку-маляра пошлешь… на кирпичную трубу лазил! Пьяного только не пускай, еще сорвется.
— Нипочем не сорвется, пьяный только и берется! Да он, будь-п-койны-с, себя уберегет. В кумполе лючок слуховой, под яблочком… он, стало быть, за яблочко причепится, захлестнется за шейку, подберется, ко кресту вздрочится, за крест зачепится-захлестнется, в петельке сядет — и качай! Новые веревки дам. А с вами-то мы, бывало… на Христе-Спасителе у самых крестов качали, уберег Господь.
Прошла «верба». Вороха роз пасхальных, на иконы и куличи, лежат под бумагой в зале. Страстные дни. Я еще не говею, но болтаться теперь грешно, и меня сажают читать Евангелие. «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду…» Я не могу понять: Авраам же мужского рода! Прочтешь страничку, с «морским жителем» поиграешь, с вербы, в окно засмотришься. Горкин пасочницы как будто делает! Я кричу ему в форточку, он мне машет.
На дворе самая веселая работа: сколачивают щиты и звезды, тешут планочки для — X. В. На приступке сарая, на солнышке, сидит в полушубке Горкин, рукава у него съежены гармоньей. Называют его — «филенщик», за чистую работу. Он уже не работает, а так, при доме. Отец любит с ним говорить и всегда при себе сажает. Горкин поправляет пасочницы. Я смотрю, как он режет кривым резачком дощечку.
— Домой помирать поеду, кто тебе резать будет? Пока жив, учись. Гляди вот, винограды сейчас пойдут…
Он ковыряет на дощечке, и появляется виноград! Потом вырезает «священный крест», иродово копье и лесенку — на небо! Потом удивительную птичку, потом буковки — X. В. Замирая от радости, я смотрю. Старенькие у него руки, в жилках.
— Учись святому делу. Это голубок, Дух-Свят. Я тебе, погоди, заветную вырежу пасочку. Будешь Горкина поминать. И ложечку тебе вырежу… Станешь щи хлебать — глядишь, и вспомнишь.
Вот и вспомнил. И все-то они ушли…
Я несу от Евангелий страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек: он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь: погаснет! Донесу — доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Она вымывает руки, берет святой огонек, зажигает свою лампадку, и мы идем выжигать кресты. Выжигаем над дверью кухни, потом на погребице, в коровнике…
— Он теперь никак при хресте не может. Спаси Христос… — крестясь, говорит она и крестит корову свечкой. — Христос с тобой, матушка, не бойся… лежи себе.
Корова смотрит задумчиво и жует.
Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних еще годов.
Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки — пришел Христос. И все — для Него, что делаем. Двор чисто выметен, и все уголки подчищены, и под навесом даже, где был навоз. Необыкновенные эти дни — страстные, Христовы дни. Мне теперь ничего не страшно: прохожу темными сенями — и ничего, потому что везде Христос.
У Воронина на погребице мнут в широкой кадушке творог. Толстый Воронин и пекаря, засучив руки, тычут красными кулаками в творог, сыплют в него изюму и сахарку и проворно вминают в пасочницы. Дают попробовать мне на пальце: ну, как? Кисло, но я из вежливости хвалю. У нас в столовой толкут миндаль, по всему дому слышно. Я помогаю тереть творог на решетке. Золотистые червячки падают на блюдо, — совсем живые! Протирают все, в пять решет; пасох нам надо много. Для нас — самая настоящая, пахнет Пасхой. Потом — для гостей, парадная, еще «маленькая» пасха, две людям, и еще — бедным родственникам. Для народа, человек на двести, делает Воронин под присмотром Василь-Василича, и плотники помогают делать. Печет Воронин и куличи народу.
Василь-Василич и здесь, и там. Ездит на дрожках к церкви, где Ганька-маляр висит — ладит крестовый щит. Пойду к Плащанице и увижу. На дворе заливают стаканчики. Из амбара носят в больших корзинах шкалики, плошки, лампионы, шары, кубастики — всех цветов. У лужи горит костер, варят в котле заливку. Василь-Василич мешает палкой, кладет огарки и комья сала, которого «мышь не ест». Стаканчики стоят на досках, в гнездышках, рядками, и похожи на разноцветных птичек. Шары и лампионы висят на проволках. Главная заливка идет в Кремле, где отец с народом. А здесь — пустяки, стаканчиков тысячка, не больше. Я тоже помогаю, — огарки ношу из ящика, кладу фитили на плошки. И до чего красиво! На новых досках, рядочками, пунцовые, зеленые, голубые, золотые, белые с молочком… Покачиваясь, звенят друг в дружку большие стеклянные шары, и солнце пускает зайчики, плющится на бочках, на луже.
Ударяют печально, к Плащанице. Путается во мне и грусть, и радость: Спаситель сейчас умрет… и веселые стаканчики, и миндаль в кармашке, и яйца красить… и запахи ванили и ветчины, которую нынче запекли, и грустная молитва, которую напевает Горкин, — «Иуда нечести-и-вый… си-рибром помрачи-и-ися…» Он в новом казакинчике, помазал сапоги дегтем, идет в церковь.
Перед Казанской толпа, на купол смотрят. У креста качается на веревке черненькое, как галка. Это Ганька, отчаянный. Толкнется ногой — и стукнется. Дух захватывает смотреть. Слышу: картуз швырнул! Мушкой летит картуз и шлепает через улицу в аптеку. Василь-Василич кричит:
— Эй, не дури… ты! Стаканчики примай!..
— Давай-ай!.. — орет Ганька, выделывая ногами штуки.
Даже и квартальный смотрит. Подкатывает отец на дрожках.
— Поживей, ребята! В Кремле нехватка… — торопит он и быстро взбирается на кровлю.
Лестница составная, зыбкая. Лезет и Василь-Василич. Он тяжелей отца, и лестница прогибается дугою. Поднимают корзины на веревках. Отец бегает по карнизу, указывает, где ставить кресты на крыльях. Ганька бросает конец веревки, кричит — давай! Ему подвязывают кубастики в плетушке, и он подтягивает к кресту. Сидя в петле перед крестом, он уставляет кубастики. Поблескивает стеклом. Теперь самое трудное: прогнать зажигательную нитку. Спорят: не сделать одной рукой, держаться надо! Ганька привязывает себя к кресту. У меня кружится голова, мне тошно…
— Готовааа!.. Принимай нитку-у!..
Сверкнул от креста комочек. Говорят — видно нитку по куполу! Ганька скользит из петли, ползет по «яблоку» под крестом, ныряет в дырку на куполе. Покачивается пустая петля. Ганька уже на крыше, отец хлопает его по плечу. Ганька вытирает лицо рубахой и быстро спускается на землю. Его окружают, и он показывает бумажку:
— Как трешницы-то охватывают!
Глядит на петлю, которая все качается.
— Это отсюда страшно, а там — как в креслах!
Он очень бледный, идет, пошатываясь.
В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть — это только так: все воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, что гробы отверзлись и многие телеса усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым, — навертываются даже слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с золотыми херувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными руками. Пахнет священно розами.
С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. По ограде навешены кресты и звезды, блестят стаканчики. Отец и Василь-Василич укатили на дрожках в Кремль, прихватили с собой и Ганьку. Горкин говорит мне, что там лиминация ответственная, будет глядеть сам генерал-и-губернатор Долгоруков. А Ганьку «на отчаянное дело взяли».
У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не постелили. Мне дают красить яйца.
Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, умрет скоро… Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся все… и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с мальчишками про волхвов, — все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, которые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви, одна, горят лампады. Он теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все наши ребята, — все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними Христос, везде… Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца… дрожит в яичке. Большое сахарное яйцо я вижу — и в нем Христос.
Великая Суббота, вечер. В доме тихо, все прилегли перед заутреней. Я пробираюсь в зал — посмотреть, что на улице. Народу мало, несут пасхи и куличи в картонках. В зале обои розовые — от солнца, оно заходит. В комнатах — пунцовые лампадки, пасхальные: в Рождество были голубые?.. Постлали пасхальный ковер в гостиной, с пунцовыми букетами. Сняли серые чехлы с бордовых кресел. На образах веночки из розочек. В зале и в коридорах — новые красные «дорожки». В столовой на окошках — крашеные яйца в корзинах, пунцовые: завтра отец будет христосоваться с народом. В передней — зеленые четверти с вином: подносить. На пуховых подушках, в столовой на диване, — чтобы не провалились! — лежат громадные куличи, прикрытые розовой кисейкой, — остывают. Пахнет от них сладким теплом душистым.
Тихо на улице. Со двора поехала мохнатая телега, — повезли в церковь можжевельник. Совсем темно. Вспугивает меня нежданный шепот:
— Ты чего это не спишь, бродишь?..
Это отец. Он только что вернулся.
Я не знаю, что мне сказать: нравится мне ходить в тишине по комнатам и смотреть, и слушать, — другое все! — такое необыкновенное, святое.
Отец надевает летний пиджак и начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие не так умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса: «Воскресение Твое Христе Спасе… Ангели поют на небеси…». И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отчего-то плакать. Смотрю на него, как становится он на стул, к иконе, и почему-то приходит в мысли: неужели и он умрет!.. Он ставит рядком лампадки на жестяном подносе и зажигает, напевая священное. Их очень много, и все, кроме одной, пунцовые. Малиновые огоньки спят — не шелохнутся. И только одна, из детской, — розовая, с белыми глазками, — ситцевая будто. Ну, до чего красиво! Смотрю на сонные огоньки и думаю: а это святая иллюминация, Боженькина. Я прижимаюсь к отцу, к ноге. Он теребит меня за щеку. От его пальцев пахнет душистым, афонским, маслом.
— А шел бы ты, братец, спать?
От сдерживаемой ли радости, от усталости этих дней, или от подобравшейся с чего-то грусти, — я начинаю плакать, прижимаюсь к нему, что-то хочу сказать, не знаю… Он подымает меня к самому потолку, где сидит в клетке скворушка, смеется зубами из-под усов.
— А ну, пойдем-ка, штучку тебе одну…
Он несет в кабинет пунцовую лампадку, ставит к иконе Спаса, смотрит, как ровно теплится и как хорошо стало в кабинете. Потом достает из стола… золотое яичко на цепочке!
— Возьмешь к заутрени, только не потеряй. А ну, открой-ка…
Я с трудом открываю ноготочком. Хруп, — пунцовое там и золотое. В серединке сияет золотой, тяжелый; в боковых кармашках — новенькие серебряные. Чудесный кошелечек! Я целую ласковую руку, пахнущую деревянным маслом. Он берет меня на колени, гладит…
— И устал же я, братец… а все дела. Сосни-ка, лучше, поди, и я подремлю немножко.
О, незабвенный вечер, гаснущий свет за окнами… И теперь еще слышу медленные шаги, с лампадкой, поющий в раздумьи голос —
Ангели поют на не-бе-си-и…
Таинственный свет, святой. В зале лампадка только. На большом подносе — на нем я могу улечься — темнеют куличи, белеют пасхи. Розы на куличах и красные яйца кажутся черными. Входят на носках двое, высокие молодцы в поддевках, и бережно выносят обвязанный скатертью поднос. Им говорят тревожно: «Ради Бога, не опрокиньте как!» Они отвечают успокоительно: «Упаси Бог, поберегемся». Понесли святить в церковь.
Идем в молчаньи по тихой улице, в темноте. Звезды, теплая ночь, навозцем пахнет. Слышны шаги в темноте, белеют узелочки.
В ограде парусинная палатка, с приступочками. Пасхи и куличи, в цветах, — утыканы изюмом. Редкие свечечки. Пахнет можжевельником священно. Горкин берет меня за руку.
— Папашенька наказал с тобой быть, лиминацию показать. А сам с Василичем в Кремле, после и к нам приедет. А здесь командую я с тобой.
Он ведет меня в церковь, где еще темновато, прикладывает к малой Плащанице на столике: большую, на Гробе, унесли. Образа в розанах. На мерцающих в полутьме паникадилах висят зажигательные нитки. В ногах возится можжевельник. Священник уносит Плащаницу на голове. Горкин в новой поддевке, на шее у него розовый платочек, под бородкой. Свечка у него красная, обвита золотцем.
— Крестный ход сейчас, пойдем распоряжаться.
Едва пробираемся в народе. Пасочная палатка — золотая от огоньков, розовое там, снежное. Горкин наказывает нашим:
— Жди моего голосу! Как показался ход, скричу — вали! — запущай враз ракетки! Ты, Степа… Аким, Гриша… Нитку я подожгу, давай мне зажигальник! Четвертая — с колокольни. Митя, тама ты?!.
— Здесь, Михал Панкратыч, не сумлевайтесь!
— Фотогену на бочки налили?
— Все, враз засмолим!
— Митя! Как в большой ударишь разов пяток, сейчас на красный-согласный переходи, с перезвону на трезвон, без задержки… верти и верти во все! Опосля сам залезу. По-нашему, по-ростовски! Ну, дай Господи…
У него дрожит голос. Мы стоим с зажигальником у нитки. С паперти подают — идет! Уже слышно —
…Ангели по-ют на небеси-и!..
— В-вали-и!.. — вскрикивает Горкин, — и четыре ракеты враз с шипеньем рванулись в небо и рассыпались щелканьем на семицветные яблочки. Полыхнули «смолянки», и огненный змей запрыгал во всех концах, роняя пылающие хлопья.
— Кумпол-то, кумпол-то!.. — дергает меня Горкин.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста… и там растаял. В черном небе алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — X. В. На пасочной палатке тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых…
— Ну, Христос Воскресе… — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
…сме-ртию смерть… по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.
И в Кремле удалось на славу. Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь-Василич рассказывает:
— Говорит — удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была… поддевку прожег! Митрополит даже ужасался… до чего было! Весь Кремль горел. А на Москва-реке… чисто днем!..
Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе»… «Со Светлым Праздничком»… Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ русый, маляры — посуше, порыжее… плотогоны — широкие крепыши… тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи — каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары…
Угощение на дворе. Орудует Василь-Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, — вот-вот запляшет. Зудят гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы…
Трезвоны, перезвоны, красный — согласный звон. Пасха красная.
Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, зеленые скорлупки — всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустально-золотое, через него — все волшебное. Вот — с растягивающимся жирным червячком; у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С солдатиками, с уточками, резное-костяное… И вот фарфоровое — отца. Чудесная панорамка в нем… За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке, видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что если смотреть за стеклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стеклышко. Мреет в моих глазах, — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, святое… — Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
Розговины
— Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, — говорит мне Горкин, — как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поклычивает?..
Мы сидим на дворе, на бревнах, и, подняв головы, смотрим на новенький скворешник. Такой он высокий, светлый, из свеженьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, — только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба, сверкает домик, а в нем — скворцы. Кажется мне чудесным: скворцы, живые! Скворцов я знаю, в клетке у нас в столовой, от Солодовкина, — такой знаменитый птичник, — но эти скворцы, на воле, кажутся мне другими. Не Горкин ли их сделал? Эти скворцы чудесные.
— Это твои скворцы? — спрашиваю я Горкина.
— Какие мои, вольные, божьи скворцы, всем на счастье. Три года не давались, а вот на свеженькое-то и прилетели. Что такой, думаю, нет и нет! Дай, спытаю, не подманю ли… Вчера поставили — тут как тут.
Вчера мы с Горкиным «сняли счастье». Примета такая есть: что-то скворешня скажет? Сняли скворешник старый, а в нем подарки! Даже и Горкин не ожидал: гривенник серебряный и кольцо! Я даже не поверил. Говорю Горкину:
— Это ты мне купил для Пасхи?
Он даже рассердился, плюнул.
— Вот те Христос, — даже закрестился, а он никогда не божится, — что я, шутки с тобой шучу! Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается!.. Скворцы сколько, может, годов, на счастье тебе старались, а ты…
Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились: самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым камушком. Стали просить у Горкина, Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал:
— Богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворешне, только крестик серебряный… через год и помер! Помнишь, Михал Панкратыч?
— Как не помнить. Мартын-покойник при мне скворешню снимал, а Иван Иваныч, дедушка-то, и подходит… кричит еще издаля: «чего на мое счастье?». Мартын-плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему — «все — говорит — твое тут счастье!». Будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь — крестик серебряный! Так и затуманился весь, задумался… К самому Покрову и помер. А Мартын ровно через год, на третий день Пасхи помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику.
Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают будто в домике. Горкин нынче совсем веселый. Река уж давно прошла, плоты и барки пришли с верховьев, нет такой спешки к Празднику, как всегда, плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены, народ не гоняют зря, во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая.
— Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим, распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться. Пять годов так не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть, в тот год Пасха такая же была, на травке… Помни, я тебе его пасошницу откажу, как помру… а ты береги ее. Такой никто не сделает. И я не сделаю.
— А ты ведь самый знаменитый плотник-филенщик, и папаша говорит…
— Нет, куда! Наш Мартын самому государю был известен… песенки пел топориком, Царство Небесное. И пасошницу ту сам тоже топориком вырезал, и сады райские, и винограды, и Христа на древе… Погоди, я те расскажу, как он помирал… Ах, «Мартын-Мартын, покажи аршин!» — так все и называли. А потому. После расскажу, как он государю Александру Миколаичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться.
Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют и Боталов. В сарае, на погребице, мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый, в расстегнутой розовой рубахе. Медный крестик с его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь.
— Для наших мнешь-то? — спрашивает Горкин. — Мни, мни… старайся. Да изюмцу-то не скупись — подкидывай. На полтораста душ, сколько тебе навару выйдет! Да сотню куличиков считай. У нас не как у Жирнова там, не калачами разгавливаемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный как указал, так и папашенька не нарушает.
— Так и надо… — кряхтя, говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках. — И для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюмцу сыплю, как мух на тесте!
Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей пасхой!
— А чего на розговины-то еще даете? — спрашивает Воронин. — Я своим ребятам рубца купил.
— Что там рубца! Это на закуску к водочке. Грудинки взял у Богачева три пудика, да студню заготовили от осьми быков, во как мы! Да лапша будет, да пшенник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку. Кажному по пятку яичек, да ветчинки передней, да колбасники придут с прижарками, за хозяйский счет… все по четверке съедят колбаски жареной. Нельзя. Праздник. Чего поешь — в то и сроботаешь. К нам и народ потому ходко идет, в отбор.
— Ты уж такой заботливый за народ-то, Михал Панкратыч… без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой? — спрашивает Воронин.
— Давно сбираюсь, да… сорок вот седьмой год живу. Ну, пойдем.
Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой, в мелких морщинках, шее розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо, сухое, как у угодничков, с реденькой и седой бородкой, светится, как иконка. «Кто он будет, — думаю о нем, — свято-мученик или преподобный, когда помрет?» Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий Преподобный: очень они похожи.
— Ты будешь преподобный, когда помрешь? — спрашиваю я Горкина.
— Да ты сдурел! — вскрикивает он и крестится, и в лице у него испуг. — Меня, может, и к раю-то не подпустят… О, Господи… ах ты, глупый, глупый, чего сказал. У меня грехов…
— А тебя святым человеком называют! И даже Василь-Василич называет.
— Когда пьяный он… Не надо так говорить.
Большая лужа все еще в полдвора. По случаю Праздника настланы по ней доски на бревнышках и сделаны перильца, как сходы у купален. Идем по доскам и смотримся. Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным, маленькие как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка.
— Ах, негодники! — вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. — Нет, это я дознаюсь… ах, подлецы-негодники! Разговелись загодя, подлецы!
Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина.
— Да скорлупа-то! — показывает он под ноги, и я вижу яичную красную скорлупу, как она светится под водой.
На меня веет Праздником, чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе, — светится до того красиво! Я начинаю прыгать.
— Красная скорлупка, красная скорлупка плавает! — кричу я.
— Вот, поганцы… часу не дотерпеть! — говорит грустно Горкин. — Какой же ему Праздник будет, поганцу, когда… Ондрейка это, знаю разбойника. Весь себе пост изгадил… Вот ты умник, ты дотерпел, знаю. И молочка в пост не пил, небось?
— Не пил… — тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина, и вот, на глаза наплывают слезы, и через эти слезы радостно видится скорлупка.
Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего Праздника. Сказать или не сказать Горкину?
— Вот умница… и млоденец, а умней Ондрейки-ду-рака, — говорит он, поокивая. — И будет тебе Праздник в радость.
Сказать, сказать! Мне стыдно, что Горкин хвалит, я совсем не могу дышать, и радостная скорлупка в луже словно велит сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленки Горкину, говорю:
— Горкин… я… я… я съел ветчинки…
Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинкн шершавым пальцем, разглаживает мне бровки, смотрит так ласково…
— Сказал, покаялся… и простит Господь. Со слезкой покаялся… и нет на тебе греха.
Он целует мне мокрый глаз. Мне легко. Радостно светится скорлупка.
О, чудесный, далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый, шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей и милый голос:
— И слезки-то твои сладкие… Ну, пойдем, досмотрим.
Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы. Особенные столы — для Праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесно елкой — доской еловой. Плотники, в рубахах, уже по-летнему, достругивают лавки. Мои знакомцы: Левон Рыжий, с подбитым глазом, Антон Кудрявый, Сергей Ломакин, Ондрейка, Васька…
— В отделку, Михал Панкратыч, — весело говорит Антон и гладит шершаво доски. — Теперь только розговины давай.
И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо — столы атласные.
— Это вот хорошо придумал! — весело вскрикивает Горкин. — Ондрюшка?
— А то кто ж? — кричит со стены Ондрейка, на лесенке. — Называется — траспарат. Значит — Христос Воскресе, как на церкве.
На кирпичной стене навеса поставлены розовые буквы — планки. И не только буквы, а крест, и лесенка, и копье.
— Знаю, что ты мастер, а… кто на луже лупил яичко? а?.. Ты?
— А то кто ж! — кричит со стены Ондрейка. — Сказывали, теперь можно…
— Ска-зывали… Не дотерпел, дурачок! Ну, какой тебе будет Праздник! Э-эх, Ондрейка-Ондрейка…
— Ну, меня Господь простит. Я вон для Него поработал.
— Очень ты Ему нужен! Для души поработал, так. Господь с тобой, а только что не хорошо — то не хорошо.
— Да я перекрещемшись, Михал Панкратыч!
Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш — Праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда ни глянешь, — всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные: красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла. Всюду треплются волосы враскачку — христосуются трижды. Гармошек нет. Слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью, после заутрени и обедни, а теперь — розговины для всех.
Все сядем за столы с народом, под навесом, так повелось «от древности», объяснил мне Горкин, — от дедушки. Василь-Василич Косой, старший приказчик, одет парадно. На сапогах по солнцу. Из-под жилетки — новая, синяя рубаха, шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже нахристосовался как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит:
— Ва-ся!.. Что же не христосуешься с Василь-Василичем?.. Старого не помню… ну?
И все христосуется и чмокает. И я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими, сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом. И веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. Я уже ничего не разбираю: так все пестро и громко, и звон-трезвон. С неба падает звон, от стекол, от крыш и сеновалов, от голубей, с скворешни, с распушившихся к Празднику берез, льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос враскачку, от цепочки Василь-Василича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно. Скажет-вскрикнет «Христос Воскресе!» — радостно-звонко вскрикнет — и чинно, и трижды чмокнет.
Входит во двор отец. Кричит:
— Христос Воскресе, братцы! С Праздником! Христосоваться там будем.
Валят толпой к навесу. Отец садится под «траспарат». Рядом Горкин и Василь-Василич. Я с другой стороны отца, как молодой хозяин. И все по ряду. Весело глазам: все пестро. Куличи и пасхи в розочках, без конца. Крашеные яички, разные, тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина, с красными. Христосуются долго, долго. Потом едят. Долго едят и чинно. Отец уходит. Уходит и Василь-Василич, уходит Горкин. А они все едят. Обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек: все съедено. Земли не видно, — все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники, с черными сундучками с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах. Привезенный на тачках ситный, великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить. Привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще добавить. Съеден молочный пшенник, в больших корчагах. Пильщики просят каши. И — каши нет. И последнее блюдо студня, черный великий противень, — нет его. Пильщики говорят: будя! И розговины кончаются. Слышится храп на стружках. Сидят на бревнах, на штабелях. Василь-Василич шатается и молит:
— Робята… упаси Бог… только не зарони!..
Горкин гонит со штабелей, от стружек: ступай на лужу! Трубочками дымят на луже. И все — трезвон. Лужа играет скорлупою, пестрит рубахами. Пар от рубах идет. У высоченных качелей, в саду, начинается гомозня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, будет азарт великий. Ондрейка вызвал себе под пару паркетчика с Зацепы, кто кого? Василь-Василич с выкаченным, напухшим глазом, вызывает:
— Кто на меня выходит?.. Давай… скачаю!..
— Вася, — удерживает Горкин, — и так качаешься, поди выспись.
Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил, в заутреню. Все золотое, все: и люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворешня, — что принесет на счастье? — и небо золотое, и вся земля. И звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.
Царица Небесная
С Фоминой недели народу у нас все больше: подходят из деревни ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. На кирпичах, на бревнах, на настилке каретника, даже на крыше погреба и конуре Бушуя — народ и народ, с мешками и полушубками вверх овчиной, с топориками, пилами, которые цепляют и тонко звенят, как струнки. Всюду лежат вповалку, сидят, прихватив колени в синеватых портах из пестряди: пьют прямо под колодцем, наставив рот; расчесываются над лужей, жуют краюхи, кокают о бревно и обколупывают легонько лазоревые и желтые яички, крашенные васильком и луком. У сараев, на всем виду, стоят дюжие землекопы-меленковцы.
— Меленковцы-то наши… каждый уж при своей лопате, как полагается, — показывает мне Горкин. — Пятерик хлебца смякает и еще попросит. Народ душевный.
Меленковцы одеты чисто — в белых крутых рубахах, в бурых сермягах, накинутых на одно плечо; на ногах чистые онучи, лапти — по две ступни. И воздух от них приятный, хлебный. Похаживают мягко, важно, говорят ласково — милачок, милаш. Себя знают: пождут-постоят — уйдут. Возвращаться назад не любят.
У конторы за столиком сидит грузный Василь-Василич; глаза у него напухли, лицо каленое, рыжие волосы вихрами. Говорят — бражки выпил, привезли ему плотники из дому, — вот и ослаб немножко, а время теперь горячее, не соснешь. На земле — тяжелый мешок с медью и красный поливной кувшин с квасом, в котором гремят ледышки. Медяками почокает, кваску отопьет — встряхнется. На столе в столбиках пятаки: четыре столбика, пятый сверху, — выходит домик, получи два с полтиной. Пятаки сваливают в шапки, в обмен — орленые паспорта с печатями из сажи. Тут и Горкин, для помощи, — «сама правда»; его и хозяин слушает.
На крыльце появляется отец, в верховой шапочке, с нагайкой, кричит — давай! Василь-Василич вскакивает, тоже кричит — «д-ввайй!» — и сшибает чернильницу. Отец говорит, щурясь:
— Горкин, поглядывай!..
— Будь-п-койны-с, до ночи все подчищу! — вскрикивает Василь-Василич и крепко кладет на счетах. — А это-с… солнышком напекло!..
Кавказка давно оседлана. Осторожно ступая между лежачими, которые принимают ноги, она направляется к отцу. Все на нее дивятся: «Жар-Птица, прямо», — такая она красавица! Так и блестит на солнце от золотистой кожи, от серебряного седла, от глаз. Отец садится, оглядывает народ, — «что мало?» — и выезжает на улицу. Вдогонку ему кричат: «забирай всех — вот те и будет много!»
— Ги-рой!.. — вскрикивает Василь-Василич и воздевает руки, — В Подольск погнал, барки закупать… а к ночи уж тут как тут!..
Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется. Когда Василь-Василич начинает махать-грозиться — «я те летось еще сказал… и глаз не кажи лучше, хозяйский струмент пропил!» — Горкин вступается:
— Хозяин простил… по топорику хорош, на соломинку враз те окоротит. А на винцо-то все грешные.
— Задавай билет, ладно.. — гудит Василь-Василич в кувшин, — первопоследний раз. У меня на хозяйское добро и муха не может!..
Нельзя не уважить Горкину, и подряды большие взяты: мост в Кожевниках строят, плотину у Храм-Спасителя перешивают, — работы хватит.
А то и Горкин рассердится:
— Уходи и уходи без розговору, до бутошника… — поокивает он строго: — К скудентам своим ступай, бунтуй, они те курятиной кормить будут. Я тебя по летошнему году помню, как народ у меня булгачил. Давно тебя в поминанье написал!
Все глядят весело, как плутоватый парень, ругаясь, идет к воротам. Кричат вдогонку:
— Шею ему попарь, скандальщику! Топорика-то не держал… плотник!..
В кабинете с зеленой лампой сидит отец, громко стучит на счетах. Он только что вернулся. Высокие сапоги в грязи, пахнет от них полями. Пахнет седлом, Кавказкой, далеким чем-то. Перегнувшись на стульчике, потягивает бородку Горкин. В дверях строго стоит Василь-Василич, косит тревожно: не было бы чего. В окно веет прохладой и черной ночью, мерцают звезды. Я сижу на кожаном диване и все засматриваю в окошко сквозь ширмочки. Ширмочки разноцветные, и звезды за ними меняют цвет: вот золотая стала, а вот голубая, красная… а вот простая. Я вскрикиваю даже: «глядите, какие звездочки!» Отец грозится, продолжая стучать на счетах, но я не могу уняться: — «малиновые, зеленые, золотые… да поглядите скорей, какие!..» Кажется мне, что это сейчас все кончится.
— И что ты, братец, мешать приходишь… — рассеянно говорит отец и начинает смотреть сквозь ширмочки.
Заглядывает и Горкин, почему-то мотая головой, и даже Василь-Василич. Он подходит на цыпочках, сгибается, чтобы лучше видеть, а сам подмаргивает мне.
— А, выдумщик! — сердясь, говорит отец.
Они ничего не видят; а я вижу: чудесные звездочки, другие!
— Новых триста сорок… Ну, как? — спрашивает отец Горкина.
— Робята хорошие попались, ничего. Ондрюшка от Мешкова к нам подался…
— Это стекла который бил, скандалист?
— Понятно, разбойник он… и зашибает маненько, да руки золотые! С Мартыном не поровняешь, а за ним станет.
— С Марты-ном? Ну, это ж…
— Меня-то он побоится, крестник мне, попридержу дурака.
— Сам Мешков оставлял, простил, — вступается и Василь-Василич, — прибавку давал даже. Мартын не Мартын, а… не хуже альхитектора.
Мартына я не знаю, но это кто-то особенный, Горкин сказал мне как-то: «Мартын… Такого и не будет больше, песенки пел топориком! У Господа теперь работает».
— Суббота у нас завтра… Иверскую, Царицу Небесную принимаем. Когда назначено?
Горкин кладет записочку:
— Вот, прописано на бумажке. Монах сказывал — ожидайте Царицу Небесную в четыре… а то в пять, на зорьке. Как, говорит, управимся.
— Хорошо. Помолимся — и начнем.
— Как, не помолемшись! — говорит Горкин и смотрит в углу на образ. — Наше дело опасное. Сушкин летось не приглашал… какой пожар-то был! Помолемшись-то и робятам повеселей, духу-то послободней.
— Двор прибрать, безобразия чтобы не было. Прошлый год понесли Владычицу мимо помойки!..
— Вот это уж недоглядели, — смущенно говорит Горкин. — Она-Матушка, понятно, не обидится, а нехорошо. Тесинками обошьем помоечку. И лужу-то палубником, что ли, поприкрыть, больно велика. Народ летось под Ее-Матушку как повалился, — прямо те в лужу… все-то забрызгали. И монах бранился… чисто, говорит, свиньи какие!
— От прихода для встречи Спаситель будет с Николай-Угодником. Ратников калачей чтобы не забыл ребятам, сколько у него хлеба забираем…
— Калачи будут, обещал. И бараночник корзину баранок горячих посулил, для торжества. Много у него берут в деревню…
— Которые понесут — поддевки чтобы почище, и с лица поприглядней.
— Есть молодчики, и не табашники. Онтона Кудрявого возьму…
— Будто и не годится подпускать Онтона-то?.. — вкрадчиво говорит Василь-Василич. — Баба к нему приехала из деревни… нескладно будто?..
— А и вправду, что не годится. Да наберем-с, на полсотню хоть образов найдем. Нищим по грошику? Хорошо-с. Многие приходят из уважения. Песочком посорим, можжевелочкой, травки новой в Нескушном подкосим, под Владычицу-то подкинуть…
— Ну, все. Пошлешь к Митреву в трактир… калачика бы горяченького с семгой, что ли… — потягиваясь, говорит отец. — Есть что-то захотелось, сто верст без малого отмахал.
— Слушаю-с, — говорит Василь-Василич. — Уж и гирой вы!..
Отец прихватывает меня за щеку, сажает на колени на диване. Пахнет от него лошадью и сеном.
— Так — звездочки, говоришь? — спрашивает он, вглядываясь сквозь ширмочки. — Да, хорошие звездочки… А я, братец, барки какие ухватил в Подольске!.. Вырастешь — все узнаешь. А сейчас мы с тобой калачика горяченького…
И, раскачивая меня, он весело начинает петь:
Калачи — горячи,
На окошко мечи!
Проезжали г..начи,
Потаскали калачи.
Прибег мальчик,
Обжег пальчик,
Побежал на базар,
Никому не сказал.
Одной бабушке сказал:
Бабушка-бабушка,
Ва-ри кутью —
Поминать Кузьму!
Двор и узнать нельзя; лужу накрыли рамой из шестиков, зашили тесом, и по ней можно прыгать, как по полу, — только всхлипывает чуть-чуть. Нет и грязного сруба помойной ямы: одели ее шатерчиком, — и блестит она новыми досками, и пахнет елкой. Прибраны ящики и бочки в углах двора. Откатили задки и передки, на которых отвозят доски, отгребли мусорные кучи и посыпали красным песком — под елочку. Принакрыли рогожами навозню, перетаскали высокие штабеля досок, заслонявшие зазеленевший садик, и на месте их, под развесистыми березами, сколотили высокий помост с порогом. Новым кажется мне наш двор — светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, Она все знает: что у нас под шатерчиком помойка, и лужа та же, и мусор засыпали песочком; но все же и Ей приятно, что у нас стало чисто и красиво, и что для Нее все это. И все так думают. Стучат весело молотки, хряпкают топоры, шипят и вывизгивают пилы. Бегает суетливо Горкин:
— Так, робятки, потрудимся для Матушки-Царицы Небесной… лучше здоровья пошлет, молодчики!..
Приходят с других дворов, дивятся — какой парад!
Ступени высокого помоста накрыты красным сукном — с «ердани», и даже легкую сень навесили, где будет стоять Она: воздушный, сквозной шатер, из тонкого воскового теса, струганного двойным рубанком, — как кружево! Легкий сосновый крестик, будто из розового воска, сделан самим Андрюшкой, и его же резьба навесок — звездочками и крестиками, и точеные столбушки из реек, — загляденье. И даже «сияние» от креста, из тонких и острых стрелок, — совсем живое!
— Ах, Ондрейка! — хлопает себя Горкин по коленкам, — Мартын бы те прямо…
Андрюшка, совсем еще молодой, в светлой, пушком, бородке, кажется мне особенным, как Мартын. Он сидит на шатре помойки и оглядывает «часовенку».
— Так, ладно… — говорит он с собой, прищурясь, несет в мастерскую дранки, свистит веселое, — и вот, на моих глазах, выходит у него птичка с распростертыми крыльями — голубок? Трепещут лучинки-крылья, — совсем живой! Его он вешает под подзором сени, крылышки золотятся и трепещут, и все дивятся, — какие живые крылья, «как у Святого Духа!». Сквозные, они парят.
Вечерком заходит взглянуть отец. За ним ходит Горкин с Василь-Василичем. Молча глядит отец, глядит долго… роется пальцами в жилетке, приказывает позвать Андрюшку. Говорят — не то в баню пошел, не то в трактире.
— Целковый ему на чай! — говорит отец. Жалованье за старшого.
Чуть светает, я выхожу во двор. Свежо. Над «часовенкой» — смутные еще березы, с черными листочками-сердечками, и что-то таинственное во всем. Пахнет еловым деревом по росе и еще чем-то сладким: кажется, зацветают яблони. Перекликаются сонные петухи — встают. Черный воз можжевельника кажется мне мохнатою горою, от которой священно пахнет. Пахнет и первой травкой, принесенной в корзинах и ожидающей. Темный, таинственный тихий сад, черные листочки берез над крестиком, светлеющий голубок под сенью и черно-мохнатый воз — словно все ждет чего-то. Даже немножко страшно: сейчас привезут Владычицу.
Светлеет быстро. У колодца полощутся, качают, — встает народ. Которые понесут — готовы. Стоят в сторонке, праздничные, в поддевках, шеи замотаны платочком, сапоги вычернены ваксой, длинные полотенца через плечо. Кажутся и они священными. Горкин ушел к Казанской с другими молодцами — нести иконы. Василь-Василич, в праздничном пиджаке, с полотенцем через плечо, дает последние приказания:
— Ты, Сеня, как фонарик принял, иди себе — не оглядывайся. Мы с хозяином из кареты примем, а Авдей с Рязанцем подхватят с того краю. А которые под Ее поползут, не шибко вались на дружку, а чередом! Да повоздержитесь, лешие, с хлеба-то… нехорошо! Летось поперли… чисто свиньи какие… батюшка даже обижался. При иконе и такое безобразие неподходящее. Мало ли чего, в себе попридержите… «не по своей воле!». Еще бы ты по своей воле!.. А, Цыганку не заперли… забирай ее, лешую!..
Кидаются за Цыганкой. Она забивается под бревна и начинает скулить от страха. Отцепляют от конуры Бушуя и ведут на погребицу. Стерегут на крышах, откуда до рынка видно. Из булочной, напротив, выбегли пекаря, руки в тесте. Несут Спасителя и Николу-Угодника от Казанской, с хоругвями, ставят на накрытые простынями стулья — встречать Владычицу. С крыши кричат: «Едет!»
— Матушка Иверская… Царица Небесная!..
Горкин машет пучком свечей: расступись, дорогу! Раскатывается холстинная дорожка, сыплется из корзин трава.
— Матушка… Царица Небесная… Иверская Заступница…
Видно передовую пару шестерки, покойной рысью, с выносным на левой… голубую широкую карету. Из дверцы глядит голова монаха. Выносной забирает круто на тротуар, с запяток спрыгивает какой-то высокий с ящиком и открывает дверцу. В глубине смутно золотится. Цепляя малиновой епитрахилью с золотом, вылезает не торопясь широкий иеромонах, следует вперевалочку. Служка за ним начинает читать молитвы. Под самую карету катится белая дорожка.
…Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас…
Отец и Василь-Василич, часто крестясь, берут на себя тяжелый кивот с Владычицей. Скользят в золотые скобы полотенца, подхватывают с другого краю, — и, плавно колышась, грядет Царица Небесная надо всем народом. Валятся, как трава, и Она тихо идет над всеми. И надо мной проходит, — и я замираю в трепете. Глухо стучат по доскам над лужей, — и вот уже Она восходит по ступеням, и лик Ее обращен к народу, и вся Она блистает; розово озаренная ранним весенним солнцем.
…Спаа-си от бед… рабы твоя, Богородице…
Под легкой, будто воздушной сенью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, Царица Небесная — над всеми. Под ней пылают пуки свечей, голубоватыми облачками клубится ладан, и кажется мне, что Она вся — на воздухе. Никнут над Ней березы золотыми сердечками, голубое за ними небо.
…к Тебе прибегаем… яко к Нерушимой Стене и предста-тель-ству-у…
Вся Она — свет, и все изменилось с Нею, и стало храмом. Темное — головы и спины, множество рук молящих, весь забитый народом двор… — все под Ней. Она — Царица Небесная. Она — над всеми. Я вижу на штабели досок сбившихся в стайку кур, сбитых сюда народом, огнем и пеньем, всем непонятным, этим, таким необычайным, и кажется мне, что и этот петух, и куры, и воробьи в березках, и тревожно мычащая корова, и загнанный на погребицу Бушуй, и в бревнах пропавшая Цыганка, и голуби на кулях овса, и вся прикрытая наша грязь, и все мы, набившиеся сюда, — все это Ей известно, все вбирают Ее глаза. Она, Благодатная, милостиво на все взирает.
…Призри благосе-рдием, всепетая Богоро-дице.
Я вижу Горкина. Он сыплет в кадило ладан, хочет сам подать батюшке, но у него вырывает служка. Вижу, как встряхивают волосами, как шепчут губы, ерзают бороды и руки. Слышу я, как вздыхают: «Матушка… Царица Небесная»… У меня горячо на сердце: над всеми прошла Она, и все мы теперь — под Нею.
…Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас!..
Пылают пуки свечей, густо клубится ладан, звенят кадила, дрожит синеватый воздух, и чудится мне в блистаньи, что Она начинает возноситься. Брызгает серебро на все: кропят и березы, и сараи, и солнце в небе, и кур с петухом на штабели… а Она все возносится, вся — в сияньи.
— Берись… — слышен шепот Василь-Василича.
Она наклоняется к народу… Она идет. Валятся под Нее травой, и тихо обходит Она весь двор, все его закоулки и уголки, все переходы и навесы, лесные склады… Под ногами хрустит щепой, тонкие стружки путаются в ногах и волокутся. Идет к конюшням… Старый Антипушка, похожий на святого, падает перед Ней в дверях. За решетками денников постукивают копыта, смотрят из темноты пугливо лошади, поблескивая глазом. Ее продвигают краем, Она вошла. Ей поклонились лошади, и Она освятила их. Она же над всем Царица, Она — Небесная.
— Коровку-то покропите: посуньте Заступницу-то к коровке! — просит, прижав к подбородку руки, старая Марьюшка-кухарка.
— Надо уважить, для молочка… — говорит Андрон-плотник.
Вдвигают кивот до половины, держат. Корова склонила голову.
Несут по рабочим спальням. Для легкого воздуха накурено можжухой. Спаситель и Николай-Угодник провожают. Вносят и в наши комнаты, выносят во двор и снова возносят на подмостки. Приходят с улицы — приложиться. Поют народом: «Пресвятая Богоро-дице, спаси на-ас». Горкин руками водит, чтобы складнее пели. Батюшки кушают чай в парадном зале, закусывают семгой и белорыбицей, со свежими, паровыми огурцами. Василь-Василич угощает в конторе «ящичного» и кучера с мальчишкой; мальчишку — стоя. Народ стережет священную карету. На ее дверцах написаны царские короны, золотые. Старушки крестятся на Ее карету, на лошадей; кроткие у Ней лошадки, совсем святые.
Голубая карета едва видна, а мы еще все стоим, стоим с непокрытыми головами, провожаем…
— Помолемшись… — слышатся голоса в народе.
— По гривеннику выдать, чайку попьют, — говорит отец. — Ну, помолились, братцы… завтра, благословясь, начнем.
Весело говорят:
— Дай Господи.
Праздник еще не кончился. Через дорогу несут от Ратникова на узких лотках калачики — горячие, огневые, — жгутся. Плывут лотки за лотками на головах, как лодочки. А вот и горячие баранки, с хрустом. Едят на бревнах, идут в трактиры. Толкутся в воротах нищие, поздравляют: «помолемшись!» Им дают грошики. Понемногу расходятся. Остается пустынный двор, как-то особенно притихший, — обмоленный. Жалко расстаться с ним.
Вечер, а все еще пахнет ладаном и чем-то еще… святым? Кажется мне, что во всех щелях, в дырках между досками, в тихом саду вечернем, — держится голубой дымок, стелются петые молитвы, — только не слышно их. Чудится мне, что на всем остался благостный взор Царицы.
Василь-Василич, с плотниками, уже буднично говорит:
— Поживей-поживей, ребята… все разобрать, собрать, что к чему. Помойку расшить, с лужи палубник принять, штабеля на место. Некогда завтра заниматься.
Возвращается старый двор. Светлую сень снимают. Падает голубок и крест. Неужели и их расколют?! Я беру голубка и крест. Я унесу их в садик, они святые. Штабеля заслоняют сад. Разбирают покрышку с ямы, тащат по луже доски. Вот уж и прежнее. Цепью гремит Бушуй, прыгает по доскам Цыганка. Да где же — все?! Я несу голубка и крест. В саду, под розоватыми яблоньками, пахнет священно-грустно, здесь еще тихий свет. Я гляжу на вечерние березы, на сердечки… Сквозные еще они, и виднеется через них, как в сетке, вечернее голубое небо.
Должно быть, грустно и Горкину. Он сидит на бревнах, глядит, как укладывают доски, о чем-то думает.
— Вот те и отмолились… — говорит он, поглаживая мою коленку. — Доживем — и еще помолимся. К Троице бы вот сходить надо… Там уж круглый те год моление, благолепие… а чистота какая!.. И паки соборы, и цветы всякие, и ворота все в образах… а уж колокола-а звонят… поют и поют прямо!..
Меня заливает и радостью, и грустью, хочется мне чудесного, и утреннее поет во мне —
…Пресвятая Богоро-дице… спаси на-ас!..
Троицын день
На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром, что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь: суббота нынче.
Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках — как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблони — белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают, на образа. Троицын день завтра.
Горкин совсем по-летнему, в рубашке, без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы, выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старый Антипушка, на лесенке у конюшни, трет кирпичом медный зеленый крест, на амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет в ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит:
— Я те, озорник, пошвыряю… Нипочем не возьму на Воробьевку! — и идет в холодок, под доски. — Вотрушки, никак, пекут?.. Ну-ко, сходи, попотчуй.
Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую, с противня, ватрушку. Выпрашиваю и Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, — такие они горячие.
— Бо-гатые вотрушки… — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. — На Троицу завтра кра-сный денек будет. А на Духов День, попомни вот, замутится. А то и громком, может, погрозит. Всегда уж так. Потому и жолоба готовлю.
— А почему — «и страх, в радость…» — вчера сказал-то?
— Троица-то? А, небось, учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал… Как же ты так не знаешь? У Казанской икона вон… три лика, с посошками, под древом, и яблочки на древе. А на столике хлебца стопочка и кувшинчик с питием. А царь-Авраам приклонился, ручки сложил и головку от страху отворотил. Стра-шно, потому. Ангели лики укрывают, а не то что… Пойдет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам зайдет. Радость-то кака, а?.. У тебя наверху, в кивоте, тоже Троица.
Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три Святые с посошками под деревцом, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины.
— Верно. Завтра вся земля именинница. Потому — Господь ее посетит. У тебя Иван-Богослов ангел, а мой — Михаил-Архангел. У каждого свой. А земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице… Троицын день. «Пойду, — скажет Господь, — погляжу во Святой Троице, навещу». Адам согрешил. Господь-то чего сказал? «Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего исделал!» И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взростила, березки, травки всякие… Вот и понесем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: «пошли, Господи, лето благоприятное!» Хо-рошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра: «Кто-о Бог ве-лий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ряй чу-де-са-а!»
Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще и еще разок. И поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва «страшно победная», в году два раза поют только; завтра, на Троицу, да на Пасхе, на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва «Свете тихий» пропоют, а потом ее.
— Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает… нет, говорит, такой! Есть, по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошепчи в травку: «и тебе мати-сыра земля, согрешил, мол, душою и телом». Она те и услышит, и спокаешься во грехах. Все ей грешим. Выростешь — узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на Духов день, может, и дожжок пошлет… Божью благодать.
Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая, — молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно.
Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василь-Василич, валится с них — и прямо под колодец. Горкин ему качает и говорит: «нехорошо, Вася… не годится». Он только хрипит: «взопрел!» Встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «в ты-щи местов надоть… й-еду-у!» Кричат от ворот — «хозяин!». Василь-Василич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку. Кричит: «тверрдо стою, мо…гу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, Кавказка в мыле.
— Косой здесь? — спрашивает отец и видит Василь-Василича. — Да где тебя носило — поймать не мог?
— Все в порядке, будь-п-койны-с… тыщи местов изъездил! — кричит Василь-Василич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василь-Василич.
— Хо-рош! — говорит отец. — Пример показываешь.
— Будь-п-койны-с, крепко стою… голову запекло, взопрел-с! В тыще местов был; все… как есть, в п-рядке!
Отец смотрит на него, он смотрит на отца — не колыхнется. Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим… Василь-Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и… Все в порядке!
— Под Воробьевку робят нарядил надежных, никого не потопим, догляжу-с.
— Видно, Горкину за тебя глядеть! — говорит отец. — Летось пятерых чуть не утопил… спасибо, выплыли. А тебя в Марьину, где посуше.
— Воля ваша. Только Панкратычу трудно будет… старый человек, священный! С народом не собразишься… тыщи народу завтра, самый у нас мокрый праздник. Троица! все на воду рвутся, веночки эти запущают, по старой моде, с березками катаются, не дай Бог! С ими надо какое ожесточе-ние!.. Кого по шее, кого веслом… кому доброе слово… разные пьяные бывают. А у нас под шестьдесят лодок прогулочных, три дощака да две косых, на перевозе… тыщи с-под Девичьего навалится, всех принять надо без скандалу-с… Я уж урядника запросил и станового попридержу закусочкой, для строгости…
— Пьяницу-то Горшкова?
— Завтра он устрашится, вот как!.. Страх его заберет-с, по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку… будет при опасном посту! А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой-с. Ногой топнет — весь берег задрожит… пьяные самые к лодкам и не подойдут-с. На их глотку-то каку надо! А Михал Панкратыч, старый человек, священный… а, сами знаете, с нашим народом как?
— Помни. За порядок — красную, за чуть что… искупаю! Обедать.
— О-рел! — взмахивает руками Василь-Василич, совсем веселый. — Прямо свет-приставление завтра на Воробьевке будет! — и опять лезет под колодец.
Рад и Горкин: от греха подальше.
Едем на Воробьевку, за березками. Я с Горкиным на Кривой в тележке, Андрюшка-плотник — на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный, майский. С Нескучного ландышками тянет. Едут воза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки — на Троицу. Дорога в горку. Кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне — что где: Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. «А потом к Крынкину самому заедем, чайку попьем, трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке!» Справа деревья тянутся, в светлой и нежной зелени.
— Гляди, матушка-Москва-то наша!.. — толкает меня Горкин и крестится.
Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились, — я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где — Москва?..
— Вниз-то, в провал гляди… эн она где, Москва-то!..
Я вижу… Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва… Какая же она большая!.. Смутная вдалеке, в туманце. Но вот, яснее… — я вижу колоколенки, золотой куполок Храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые и зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры-стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними… Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики.
— Вон Казанская наша, башенка-то зеленая! — указывает Горкин. — А вон, возля-то ее, белая-то… Спас-Наливки. Розовенькая, Успенья Казачья… Григорий Кесарейский, Троица-Шабловка… Риз Положение… а за ней, в пять кумполочков, розовый-то… Донской монастырь наш, а то — Данилов, в роще-то. А позадь-то, колокольня-то высоченная, как свеча… то Симонов монастырь, старинный!.. А Иван-то Великой, а Кремь-то наш, а? А вон те Сухарева башня… А орлы те, орлы на башенках… А Москва-река-то наша, а?.. А под нами-то, за лужком… белый-красный… кака колокольня-то с узорами, с кудерьками, а?! Девичий монастырь это. Кака Москва-то наша!..
В глазах у меня туманится. Стелется подо мной, в небо восходит далью.
Едем березовою рощей, старой. Кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше — березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно: все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится.
— Дух-то, дух-то леккой какой… березовый, а? — вздыхает Горкин. — Приехали. Ондрейка-озорник, дай-ко молодчику топорик, его почин. Перва его березка.
Мне боязно. Горкин поталкивает — берись. Выбирает мне деревцо. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке, одна. Шептались ее листочки. Мне стало жалко.
— Крепше держи топорик. В церкву пойдет, молиться, у Троицы поставлю, помечу твою березку… — и он завязывает на ней свой поясок с молитвой. — Да ну, осмелей… ну?..
Он берет мои руки с топориком, повертывает, как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней. А кругом падают другие, слышится дрожь и шелест.
— Давай его на седло, в Черемушки его прокачу! — слышу я крик отца.
И радостно, и страшно. И будто во сне все это.
Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья. Прыгает голова Кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня под мышками. Пахнет знакомыми духами-флердоранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, — светлый, густой орешник. «Кукушка… слышишь? — колет отец усами, — ку-ку… ку-ку?» Слышу, совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик, в накинутом на рубаху полушубке; с ним девочка, в розовом платьице. Здороваются, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные, темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке: «жениху-то цветочков дай». Девочка смотрит исподлобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка — у нее синие глазки и светлые, как у куклы, волосы — протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод, — говорит мне потом отец, — богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесною глушью, опять кукушка… — будто во сне все это.
На дороге наши воза с березками. Отец ссаживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село, к Крынкину. Он толстый и высокий, как Василь-Василич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину, в галерейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине, а я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу, за рекой — Москва. Нижние стекла разные — синие, золотые, красные. И Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше.
— Никак над Москвой-то дождик? — говорит Горкин и открывает окно на галерейке.
Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь, серой косой полоской. Светло за ней, и вот — видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга.
— Так, проходящая… пыль поприбьет маленько. Пора, поедем.
Крынкин говорит: «постой, гостинчика ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит: «крынкинская, парниковая, с Воробьевки, — и поклончик папашеньке».
Мы едем на березках. Вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками… — будто во сне все это.
Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно: Троицын День сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней.
На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне — тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей.
На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: «молчи, этого никто не может знать!» Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.
Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, — в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми — глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, — где-то поют в березках. Березки и в алтаре — свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то… совсем не в церкви! Другое совсем, веселое. Я слышу — поют знакомое: «Свете тихий», а потом, вдруг, то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное:
«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, творя-ай чу-де-са-а-а!..»
Я смотрю на Горкина — слышит он? Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу.
Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже — совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще… слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под небом, маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый, легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая — именинница сегодня.
Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка — на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот это — подорожник, лапкой, это — крапивка, со сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, — манжетка. А вот одуванчик, горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «молись, не балуй, глупый… слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В березке над нами солнышко.
Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней твой… Горкин!» Они грозятся от ящика — не кричи. Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, смотрит весело на меня.
Я хожу по зеленому, праздничному двору. Большая наша лужа теперь, как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать, земля именинница сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами, — говорит он задумчиво, — а только не порядок это».
После обеда народу никого не остается, везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать.
Ночью я просыпаюсь… — гром? В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу — «Свят-свят, Господь Саваоф» — крещусь. Шумит дождик, и все сильней, — уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и «громком, может, погрозится». И вот, как верно! Троицын День прошел; начинается Духов День. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное.
Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благословил, и вот — благодать Господня шумит за окнами.
Яблочный Спас
Завтра — Преображение, а послезавтра меня повезут куда-то к Храму Христа Спасителя, в огромный розовый дом в саду, за чугунной решеткой, держать экзамен в гимназию, и я учу и учу «Священную Историю» Афинского. «Завтра» — это только так говорят, — а повезут годика через два-три, а говорят «завтра» потому, что экзамен всегда бывает на другой день после Спаса-Преображения. Все у нас говорят, что главное — Закон Божий хорошо знать. Я его хорошо знаю, даже что на какой странице, но все-таки очень страшно, так страшно, что даже дух захватывает, как только вспомнишь. Горкин знает, что я боюсь. Одним топориком он вырезал мне недавно страшного «щелкуна», который грызет орехи. Он меня успокаивает. Поманит в холодок под доски, на кучу стружек, и начнет спрашивать из книжки. Читает он, пожалуй, хуже меня, но все почему-то знает, чего даже и я не знаю. «А ну-ка, — скажет, — расскажи мне чего-нибудь из божественного…» Я ему расскажу: и он похвалит.
— Хорошо умеешь, — а выговаривает он на «о», как и все наши плотники, и от этого, что ли, делается мне покойней, — не бось, они тебя возьмут в училищу, ты все знаешь. А вот завтра у нас Яблошный Спас… про него умеешь? Та-ак. А яблоки почему кропят? Вот и не так знаешь. Они тебя вспросют, а ты и не скажешь. А сколько у нас Спасов? Вот и опять не так умеешь. Они тебя учнуть вспрашивать, а ты… Как так у тебя не сказано? А ты хорошенько погляди, должно быть.
— Да нету же ничего… — говорю я, совсем расстроенный, — написано только, что святят яблоки!
— И кропят. А почему кропят? А-а! Они тебя вспросют — ну, а сколько, скажут, у нас Спасов? А ты и не знаешь. Три Спаса. Первый Спас, — загибает он желтый от политуры палец, страшно расплющенный, — Медовый Спас, Крест выносят. Значит, лету конец, мед можно выламывать, пчела не обижается… уж пошабашила. Второй Спас, завтра который вот, — Яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не велено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то без вреда. А третий Спас называется орешный, орехи поспели, после Успенья. У нас в селе крестный ход, икону Спаса носят, и все орехи грызут. Бывало, батюшке насбираем мешок орехов, а он нам лапши молочной — для розговин. Вот ты им и скажи, и возьмут в училищу.
Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него в душе — доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблочков грушовки, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки, — зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Подсолнухи уже переросли заборы и выглядывают на улицу, — не идет ли уж крестный ход? Скоро их шапки срежут и понесут под пенье на золотых хоругвях. Первое яблочко, грушовка в нашем саду, — поспела, закраснелись. Будем ее трясти — для завтра. Горкин утром еще сказал:
— После обеда на Болото с тобой поедем за яблоками.
Такая радость. Отец — староста у Казанской, уже распорядился:
— Вот что, Горкин… Возьмешь на Болоте у Крапивкина яблок мер пять-шесть, для прихожан и ребятам нашим, «бели», что ли… да наблюдных, для освящения, покрасовитей, меру. Для причта еще меры две, почище каких. Протодьякону особо пошлем меру апортовых, покрупней он любит.
— Ондрей Максимыч земляк мне, на совесть даст. Ему и с Курска, и с Волги гонят. А чего для себя прикажете?
— Это я сам. Арбуз вот у него выбери на вырез, астраханский, сахарный.
— Орбузы у него… рассахарные всегда, с подтреском. Самому князю Долгорукову посылает! У него в лобазе золотой диплом висит на стенке под образом, каки орлы-те!.. На всю Москву гремит.
После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин. Приказчик Василь-Василич, хоть у него и стройки, а полчасика выберет — прибежит. Допускают еще, из уважения, только старичка-лавочника Трифоныча. Плотников не пускают, но они забираются на доски и советуют, как трясти. В саду необыкновенно светло, золотисто: лето сухое, деревья поредели и подсохли, много подсолнухов по забору, кисло трещат кузнечики, и кажется, что и от этого треска исходит свет — золотистый, жаркий. Разросшаяся крапива и лопухи еще густеют сочно, и только под ними хмуро; а обдерганные кусты смородины так и блестят от света. Блестят и яблони — глянцем ветвей и листьев, матовым лоском яблок, и вишни, совсем сквозные, залитые янтарным клеем. Горкин ведет к грушовке, сбрасывает картуз, жилетку, плюет в кулак.
— Погоди, стой… — говорит он, прикидывая глазом. — Я ее легким трясом, на первый сорт. Яблочко квелое у ней… ну, маненько подшибем — ничего, лучше сочком пойдет… а силой не берись!
Он прилаживается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт. Все кидаются в лопухи, в крапиву. Вязкий, вялый какой-то запах от лопухов, и пронзительно едкий — от крапивы, мешаются со сладким духом, необычайно тонким, как где-то пролитые духи, — от яблок. Ползают все, даже грузный Василь-Василич, у которого лопнула на спине жилетка и видно розовую рубаху лодочкой; даже и толстый Трифоныч, весь в муке. Все берут в горсть и нюхают: ааа… гру-шовка!..
Зажмуришься и вдыхаешь, — такая радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая сладость-крепость — со всеми запахами согревшегося сада, замятой травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках…
И теперь еще, не в родной стране, когда встретишь невидное яблочко, похожее на грушовку запахом, зажмешь в ладони, зажмуришься, — и в сладковатом и сочном духе вспомнится, как живое, — маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший… с березками и рябиной, с яблоньками, с кустиками малины, черной, белой и красной смородины, крыжовника виноградного, с пышными лопухами и крапивой, далекий сад… — до погнутых гвоздей забора, до трещинки на вишне с затеками слюдяного блеска, с капельками янтарно-малинового клея, — все, до последнего яблочка верхушки за золотым листочком, горящим, как золотое стеклышко!.. И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичами, с досками, влипшими до дождей, с увязнувшей навсегда опоркой… и серые сараи, с шелковым лоском времени, с запахами смолы и дегтя, и вознесенную до амбарной крыши гору кулей пузатых, с овсом и солью, слежавшеюся в камень, с прильнувшими цепко голябями, со струйками золотого овсеца… и высокие штабеля досок, плачущие смолой на солнце, и трескучие пачки драни, и чурбачки, и стружки…
— Да пускай, Панкратыч!.. — оттирает плечом Василь-Василич, засучив рукава рубахи, — ей-богу, на стройку надоть!..
— Да постой, голова елова… — не пускает Горкин, — по-бьешь, дуролом, яблочки…
Встряхивает и Василь-Василич: словно налетает буря, шумит со свистом, — и сыплются дождем яблочки, по голове, на плечи. Орут плотники на досках: «эт-та вот тряхану-ул, Василь-Василич!» Трясет и Трифоныч, и опять Горкин, и еще раз Василь-Василич, которого давно кличут. Трясу и я, поднятый до пустых ветвей.
— Эх, бывало, у нас трясли… зальешься! — вздыхает Василь-Василич, застегивая на ходу жилетку, — да иду, черрт вас!..
— Черкается еще, елова голова… на таком деле… — строго говорит Горкин. — Эн еще где хоронится!.. — оглядывает он макушку. — Да не стрясешь… воробьям на розговины пойдет, последышек.
Мы сидим в замятой траве; пахнет последним летом, сухою горечью, яблочным свежим духом; блестят паутинки на крапиве, льются-дрожат на яблоньках. Кажется мне, что дрожат они от сухого треска кузнечиков.
— Осенние-то песни!.. — говорит Горкин грустно. — Про-щай, лето. Подошли Спасы — готовь запасы. У нас ласточки, бывало, на отлете… Надо бы обязательно на Покров домой съездить… да чего там, нет никого.
Сколько уж говорил — и никогда не съездит: привык к месту.
— В Павлове у нас яблока… пятак мера! — говорит Трифоныч. — А яблоко-то какое — па-влов-ское!
Меры три собрали. Несут на шесте в корзине, продев в ушки. Выпрашивают плотники, выклянчивают мальчишки, прыгая на одной ноге:
Крива-крива ручка,
Кто даст — тот князь.
Кто не даст — тот собачий глаз.
Собачий глаз! Собачий глаз!
Горкин отмахивается, лягается:
— Ма-хонькие, что ли… Приходи завтра к Казанской — дам и пару.
Запрягают в полок Кривую. Ее держат из уважения, но на Болото и она дотащит. Встряхивает до кишок на ямках, и это такое удовольствие! С нами огромные корзины, одна в другой. Едем мимо Казанской, крестимся. Едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке белой — Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским рынком, Григория Неокессарийского. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот, раскинув ноги. И все дремлет: белые дома на солнце, пыльно-зеленые деревья за заборчиками с гвоздями, сизые ряды тумбочек, похожих на голубые гречневички, бурые фонари, плетущиеся извозчики. Небо какое-то пыльное, — «от парева», — позевывая, говорит Горкин. Попадается толстый купец на извозчике, во всю пролетку, в ногах у него корзина с яблоками. Горкин кланяется ему почтительно.
— Староста Лощенов с Шаболовки, мясник. Жадный, три меры всего. А мы с тобой закупим боле десяти, на всю пятерку.
Вот и Канава, с застоявшейся радужной водою. За ней, над низкими крышами и садами, горит на солнце великий золотой купол Христа Спасителя. А вот и Болото, по низинке, — великая площадь торга, каменные «ряды», дугами. Здесь торгуют железным ломом, ржавыми якорями и цепями, канатами, рогожей, овсом и солью, сушеными снетками, судаками, яблоками… Далеко слышен сладкий и острый дух, золотится везде соломкой. Лежат на земле рогожи, зеленые холмики арбузов, на соломе разноцветные кучки яблока. Голубятся стайками голубки. Куда ни гляди — рогожа да солома.
— Бо-льшой нонче привоз, урожай на яблоки, — говорит Горкин, — поест яблочков Москва наша.
Мы проезжаем по лабазам, в яблочном сладком духе. Молодцы вспарывают тюки с соломой, золотится над ними пыль. Вот и лабаз Крапивкина.
— Горкину-Панкратычу! — дергает картузом Крапивкин, с седой бородой, широкий. — А я-то думал — пропал наш козел, а он вон он, седа бородка!
Здороваются за руку. Крапивкин пьет чай на ящике. Медный зеленоватый чайник, толстый стакан граненый. Горкин отказывается вежливо: только пили, — хоть мы и не пили. Крапивкин не уступает: «палка на палку — плохо, а чай на чай — Якиманская, качай!» Горкин усаживается на другом ящике, через щелки которого в соломке глядятся яблочки. — «С яблочными духами чаек пьем!» — подмигивает Крапивкин и подает мне большую синюю сливу, треснувшую от спелости. Я осторожно ее сосу, а они попивают молча, изредка выдувая слово из блюдечка вместе с паром. Им подают еще чайник, они пьют долго и разговаривают как следует. Называют незнакомые имена, и очень им это интересно. А я сосу уже третью сливу и все осматриваюсь. Между рядками арбузов на соломенных жгутиках-виточках по полочкам, над покатыми ящичками с отборным персиком, с бордовыми щечками под пылью, над розовой, белой и синей сливой, между которыми сели дыньки, висит старый тяжелый образ в серебряном окладе, горит лампадка. Яблоки по всему лабазу, на соломе. От вязкого духа даже душно. А в заднюю дверь лабаза смотрят лошадиные головы — привезли ящики с машины. Наконец подымаются от чая и идут к яблокам. Крапивкин указывает сорта: вот белый налив, — «если глядеть на солнышко, как фонарик!» — вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка.
— Наблюдных-то?.. — показистей тебе надо… — задумывается Крапивкин. — Хозяину потрафить надо?.. Боровок крепонек еще, поповна некрасовита…
— Да ты мне, Ондрей Максимыч, — ласково говорит Горкин, — покрасовитей каких, парадных. Павловку, что ли… или эту, вот как ее?
— Этой нету, — смеется Крапивкин, — а и есть, да тебе не съесть! Эй, открой, с Курска которые, за дорогу утомились, очень хороши будут…
— А вот, поманежней будто, — нашаривает в соломе Горкин, — опорт никак?..
— Выше сорт, чем опорт, называется — кампорт!
— Ссыпай меру. Архирейское, прямо… как раз на окропление.
— Глазок-то у тебя!.. В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-те-ятрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?
— Как не слыхать… золотое слово!
Горкин набирает для народа бели и россыпи, мер восемь. Берет и причту титовки, и апорту для протодьякона, и арбуз сахарный, «каких нет нигде». А я дышу и дышу этим сладким и липким духом. Кажется мне, что от рогожных тюков, с намазанными на них дегтем кривыми знаками, от новых еловых ящиков, от ворохов соломы — пахнет полями и деревней, машиной, шпалами, далекими садами. Вижу и радостные «китайские», щечки и хвостики их из щелок, вспоминаю их горечь-сладость, их сочный треск, и чувствую, как кислит во рту. Оставляем Кривую у лабаза и долго ходим по яблочному рынку. Горкин, поддев руки под казакин, похаживает хозяйчиком, трясет бородкой. Возьмет яблоко, понюхает, подержит, хотя больше не надо нам.
— Павловка, а? мелковата только?..
— Сама она, купец. Крупней не бывает нашей. Три гривенника полмеры.
— Ну что ты мне, слова голова, болясы точишь!.. Что я, не ярославский, что ли? У нас на Волге — гривенник такие.
— С нашей-то Волги версты долги! Я сам из-под Кинешмы.
И они начинают разговаривать, называют незнакомые имена, и им это очень интересно. Ловкач-парень выбирает пяток пригожих и сует Горкину в карманы, а мне подает торчком на пальцах самое крупное. Горкин и у него покупает меру.
Пора домой, скоро ко всенощной. Солнце уже косится. Вдали золотеет темно выдвинувшийся над крышами купол Ивана Великого. Окна домов блистают нестерпимо, и от этого блеска, кажется, текут золотые речки, плавятся здесь, на площади, в соломе. Все нестерпимо блещет, и в блеске играют яблочки.
Едем полегоньку, с яблоками. Гляжу на яблоки, как подрагивают они от тряски. Смотрю на небо: такое оно спокойное, так бы и улетел в него.
Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой, постукивают тонко-сухо, прыгают по плечам, над головами, идут к иконам — передаются — к «Празднику!». Проплывают над головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины на амвоне, «обкадятся», — сказал мне Горкин. Он суетится в церкви, мелькает его бородка. В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным — свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на хоругвях. Необыкновенно, весело — будто гости, и церковь — совсем не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть — Преображение.
Приходит Горкин и говорит: «пойдем, сейчас окропление самое начнется». В руках у него красный узелок — «своих». Отец все считает деньги, а мы идем. Ставят канунный столик. Золотой-голубой дьячок несет огромное блюдо из серебра, красные на нем яблоки горою, что подошли из Курска. Кругом на полу корзинки и узелки. Горкин со сторожем тащат с амвона знакомые корзины, подвигают «под окропление, поближе». Все суетятся, весело, — совсем не церковь. Священники и дьякон в необыкновенных ризах, которые называются «яблочные», — так говорит мне Горкин. Конечно, яблочные! По зеленой и голубой парче, если вглядеться сбоку, золотятся в листьях крупные яблоки и груши, и виноград, — зеленое, золотое, голубое: отливает. Когда из купола попадает солнечный луч на ризы, яблоки и груши оживают и становятся пышными, будто они навешаны. Священники освящают воду. Потом старший, в лиловой камилавке, читает над нашими яблоками из Курска молитву о плодах и винограде, — необыкновенную, веселую молитву, — и начинает окроплять яблоки. Так встряхивает кистью, что летят брызги, как серебро, сверкают и тут, и там, отдельно кропит корзины для прихода, потом узелки, корзиночки… Идут ко кресту. Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда, а знакомый дьякон, нарочно будто, три раза хлопает меня мокрой кистью по голове, и холодные струйки попадают мне за ворот. Все едят яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях. Певчие даже жуют на клиросе. Плотники идут наши, знакомые мальчишки, и Горкин пропихивает их — живей проходи, не засть! Они клянчат: «дай яблочка-то еще, Горкин… Мишке три дал!..» Дают и нищим на паперти. Народ редеет. В церкви видны надавленные огрызочки, «сердечки». Горкин стоит у пустых корзин и вытирает платочком шею. Крестится на румяное яблоко, откусывает с хрустом — и морщится:
— С кваском… — говорит он, морщась и скосив глаз, трясется его бородка. — А приятно, ко времю-то, кропленое…
Вечером он находит меня у досок, на стружках. Я читаю «Священную Историю».
— А ты не бось, ты теперь все знаешь. Они тебя вспросют про Спас, или там, как-почему яблоко кропят, а ты им строгай и строгай… в училищу и впустят. Вот погляди вот!..
Он так покойно смотрит в мои глаза, так по-вечернему светло и золотисто-розовато на дворе от стружек, рогож и теса, так радостно отчего-то мне, что я схватываю охапку стружек, бросаю ее кверху, — и сыплется золотистый, кудрявый дождь. И вдруг, начинает во мне покалывать — от непонятной ли радости, или от яблоков, без счета съеденных в этот день, — начинает покалывать щекотной болью. По мне пробегает дрожь, я принимаюсь безудержно смеяться, прыгать, и с этим смехом бьется во мне желанное, — что в училище меня впустят, непременно впустят!
Рождество
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же… Не поймешь чего — подскажет сердце.
Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он — редко, выпадет — и стаял. А у нас, повалит, — свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах — сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях — вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит — и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай — увязнешь. Тихо у нас зимой, и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной, услышишь первые колеса… — вот радость!..
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят, — скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче — белугу, осетрину, судачка, наважку; победней — селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество — свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, — мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, — разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы — к Рождеству. Обоз? Ну, будто поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из-под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек — «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев-глухарь… Знаешь — рябчик? Пестренький такой, рябой… — ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется — дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас — обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу — и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес-то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, — там лошадями торговали, — стон стоит. А площадь эта… — как бы тебе сказать?.. — да попросторней будет, чем… знаешь, Эйфелева-то башня где? И вся — в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи — как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из-под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да… с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол-то замерзает… — розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, — наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой — поросячий ряд, на версту. А там — гусиный, куриный, утка, глухари-тетерьки, рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия — без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, — большие сани, — везут-смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины… Богато жили.
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, — лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, — тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, — чаща. На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. Стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо — в дыму — лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь — хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а… тепло!..
В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды — звон-то! Морозный, гулкий, — прямо, серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала… — гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, — мороз и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… — синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, — Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный какой-то, детский, теплый… — и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.
На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком — знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка… осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.
Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь туда. Вот, прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-эствуют!..»
Волсви?.. Значит — мудрецы, волхвы. А, маленький, я думал — волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, — думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься… Видишь — кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот, подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь — впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру — «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И — на душе тепло, от счастья.
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет — «выкормочек мой… растешь…» Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:
И пусть ничто-с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтительно-с проказник
В сей день Христова Рождества!
В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке, в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, — свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, — блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит… Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется — свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле — оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как-то она загромыхала ночью, напугала.
И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки, в лесу как будто… А завтра!..
А вот и — завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мороз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки славить… Все мои друзья: сапожниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.
— «Волхи же со Звездою питушествуют!» — весело говорит Зола.
Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет…
Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:
Рождество Твое. Христе Бо-же наш…
Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги, и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.
— Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! — говорит Зола. — Сейчас будет святое приставление! — Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. — А кузнечонок у нас царь Ирод будет!
Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону. Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.
— Подымай меч выше! — кричит Зола. — А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!
Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:
Приходили вол-хи,
Приносили бол-хи,
Приходили вол-хари,
Приносили бол-хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь — Ка-стинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!
Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:
— Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим-носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут — не бросим!
Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему-то не приходит.
Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.
Приходят-уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.
Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это — «последние люди», музыканты, пришли поздравить.
— Береги шубы! — кричат в передней.
Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой, и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты все играют и играют.
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит — и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гармоника играет, топотанье… — должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними — звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.
Святки
Птицы Божьи
Рождество…
Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне —
Христос рождается — славите!
Христос с небес — срящите! —
слышится хруст морозный.
Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад — в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, — Рождество.
В детстве таким явилось — и осталось.
Они являлись на Рождество. Может быть, приходили и на Пасху, но на Пасху — неудивительно. А на Рождество, такие трескучие морозы… а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки, — это осталось в памяти.
— А где они живут? — спрашиваю я няню.
— За окнами.
За окнами… За окнами — чернота и снег.
— А почему у кормилицы сын мошенник?
— Потому. Мороз вон в окошко смотрит.
Черные окна в елочках, там мороз. И все они там, за окнами.
— А завтра они придут?
— Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи.
А вот и завтра. Оно пришло, после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому, а они уже подбираются: скрып-скрып — скрып. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота, не Пискун ли?
Приходят «со всех концов». Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей… — после поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние. Священные — в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колко солнце. И все-то праздничное, на кухне даже: на полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены, у двери вороха соломы — не дуло чтобы. Жарко, светло и сытно.
А вот и Пискун, на лавке, у лохани. На нем плисовая кофта, ситцевые розовые брюки, бархатные, дамские сапожки. Уши обвязаны платочком, и так туго, что рыжая бородка торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, — «собаки их объели», — когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил: пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко. Даже кучер его жалеет:
— Пискун ты, Пискун… пропащая твоя головушка!
Он сидит тихо-тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки.
— А Пискун кто? — спрашивал я у няни.
— Был человек, а теперь Пискун стал. Из рюмочек будешь допивать, вот и будешь Пискун.
Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет: в черном хорошем полушубке, с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками: мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, — он охотно дает пощупать, — стянут натуго ремешком, — «так, для тепла пристроил!» — похож на большую колбасу. Руку у него «Антон съел».
— Какой Антон?
— А такой. Доктор смеялся так: зовется «Антон огонь».
Ему завидуют: хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на спокой.
Дальше — бледная женщина с узелком, в тальме с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка, в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой — розовый слюнявый пряник. Должно быть, от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку; но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек.
— Чего уж убиваться-то так, нехорошо… праздник такой!.. — жалеет ее кухарка. — Господь милостив, не оставит.
Мужа у нее задавило на чугунке, кондуктора. Но Господь милостив, на сиротскую долю посылает. Жалеет и Семен, безрукий:
— Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав, — а ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да… Вон, руки нет, а… сыт, обут, одет, дай Бог каждому. Тут плакать не годится, как же так?.. Господь на землю пришел, не годится.
Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается.
Все больше и больше их. Разные старички, старушки, — подходят и подходят. Заглядывает порой Василь-Василич, справляется:
— Кровельщик-то не приходил, Глухой? Верно, значит, что помер, за трешницей своей не пришел. Сколько вас тут… десять, пятнадцать… осьмнадцать душ, так.
— Зачем — помер! — говорит Семен. — Его племянник в деревню выписал, трактир открыл… для порядку выписал.
Входит похожий на монаха, в суконном колпаке, с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы и для чего-то дует — «выдувает нечистого»? Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех:
Конец ознакомительного фрагмента.


